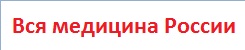|
|
Лилия Антоновна Борисова

Текст к презентации `Тригорское`

|

|

| |
Введение.
Здравствуйте, я хочу представить вашему вниманию исследование, посвящённое одному из самых удивительных музеев-заповедников России - усадьбе Тригорское в музейном комплексе "Пушкинские Горы"
В августе 2011 года я работал волонтёром в лагере доброхотов "ИМКА". Мы изучали историю заповедника, посещали и проводили экскурсии, работали в библиотеке лагеря, трудились на благоустройстве усадьбы Тригорское. Я очень многое узнал об этих прекрасных местах, но более всего меня заинтересовали обитатели Тригорского, Осиповы-Вульф, которые не только были друзьями А.С.Пушкина, но и послужили адресатами его стихотворений и прототипами некоторых персонажей романа в стихах "Евгений Онегин".
Основная часть.
Михайловское, куда Пушкина выслали из Одессы, было одним из тех тихих, глухих дворянских уголков, прелесть которых пушкинское поколение, да и его потомки, далеко не всегда умели ценить. И Пушкин сначала рвался вон из своего дворянского гнезда, чувствовал себя в нем гонимым невольником. Усадьба была простая, запущенная, бедная. Деревенский дом, как был в середине XVIII века выстроен прадедом, так и стоял без переделок, без поправок. Но это было уютное, живописное гнездо.
Пушкин, десять лет спустя после Михайловской ссылки, писал:
Вот холм лесистый, над которым часто
Я сиживал недвижим - и глядел
На озеро, воспоминая с грустью
Иные берега, иные волны…
Меж нив златых и пажитей зеленых
Оно, синея, стелется широко;
Через его неведомые воды
Плывет рыбак и тянет за собой
Убогой невод. По брегам отлогим
Рассеяны деревни - там за ними
Скривилась мельница, насилу крылья
Ворочая при ветре…
(1835)
Когда Александр неожиданно приехал из Одессы, вся семья Пушкиных была в Михайловском. Четыре года не виделся он с ними. Сестра Ольга, и в особенности брат Левушка, обрадовались его приезду, зато родители переполошились. Испуганный отец подписал согласие надзирать за сыном, что глубоко оскорбило поэта. Даже в работе не сразу находит успокоение. Чтобы писать, нужно иметь свой угол. В Михайловском у него его не было. Ни мать, ни отец не умели, не хотели считаться с его работой. Они всю жизнь провели в праздности, не понимали, что значит работать, и своего первенца не понимали они. Не любили. Третьестепенными французскими поэтами Пушкины восхищались, а в своей семье просмотрели гения.
Писать Пушкин начал сразу по приезде. В ту же осень написал он "Разговор поэта с книгопродавцем", "Подражание Корану", кончил "Цыган". А отец изводил его сценами, которые гнали поэта вон из дому и принимали все более и более тяжелый, угрожающий характер. Закон сурово карал за непочтение или неповиновение родителям. Отец имел право отдать сына в солдаты, сослать в Сибирь, Пушкин это знал.
Пожалуй, дружба с обитателями Тригорского была спасением для Пушкина. Именно они проявили самые дружеские чувства к опальному поэту, а хозяйка имения, Прасковья Александровна Осипова, стала его настоящим, самым близким другом. П. А. Осипова понимала некоторые стороны характера Пушкина тоньше, чем понимали его умные друзья.
Пушкин нашел женское общество себе по вкусу в соседнем Тригорском, где бывал каждый день. Тригорское вносило веселые перерывы в работу, которая в деревенском уединении стала особенно напряженной. Михайловское и Тригорское так крепко переплелись в повседневной жизни поэта, что надо сделать усилие, чтобы вспомнить, что это две отдельные усадьбы на вершине двух холмов, в двух верстах друг от друга. Пушкин как-то писал Осиповой: "Вспоминайте иногда о Тригорском изгнаннике, т. е. о Михайловском изгнаннике. Вы видите, я уже по привычке путаю наши с вами обиталища" (29 июля 1825 г.).
С хозяйкой Тригорского, Прасковьей Александровной Осиповой (1781–1859), Пушкин познакомился после Лицея, когда первый раз приехал в Михайловское. Ему было 18 лет, ей 36. Еще был жив ее второй муж И. С. Осипов. Вокруг них шумела большая семья. У Прасковьи Александровны от двух браков было восемь человек детей. Семь лет спустя, когда он опять появился в Тригорском они стали близкими друзьями. Пушкин относился к П. А. Осиповой с дружеским доверием, с шутливой, но ласковой почтительностью. А она была бескорыстно, безмерно предана Александру, как она его звала. Любила его, может быть, больше, чем собственных детей. В год рождения Александра Сергеевича Пушкина она вышла замуж за тверского помещика Николая Ивановича Вульфа. В этом браке родились дети: сыновья Алексей, Валериан, Михаил и дочери Анна и Евпраксия. Спустя 14 лет (в 1813 г.) стала вдовой. Второй раз вышла замуж за Ивана Софоновича Осипова, отставного чиновника, статского советника. Второй муж скончался в год приезда Пушкина в Михайловское - в 1824 г. У неё на руках кроме старших детей остались малолетние Екатерина и Мария, а еще падчерица Александра.
В момент приезда Александра Сергеевича в Михайловскую ссылку ей исполнилось 43 года, в момент смерти поэта - 56 лет.
Осипова была выше обычного помещичьего уровня. По словам ее племянницы, Анны Керн, "Прасковья Александровна мало заботилась о своем туалете, только читала, иногда вместе с детьми училась. Согласитесь, что, долго живучи в семье, где только думали покушать, отдохнуть, погулять и опять что-нибудь покушать, большое достоинство было женщине 26 или 27 лет сидеть в классной комнате, слушать, как учатся, и самой читать и учиться".
В тригорском доме было много книг. Осипова их усердно читала, некоторыми даже зачитывалась. Поэзия приводила ее в восторженное состояние. Поэты были для нее, выражаясь на тогдашнем языке, избранники богов. Что Пушкин не просто сочинитель, а гениальный поэт, это она так же твердо знала, как всем сердцем знала, что он очень хороший человек. П. И. Бартенев, который с ней встречался, писал: "Осипова, вместе с Жуковским, сумела понять чутким, всеизвиняющим сердцем, что за вспышками юношеской необузданности, за резкими отзывами, сохранялась во всей чистоте не только гениальность, но и глубокое, доброе, благородное сердце и та искренность, которая и доселе дает его творениям чарующую силу и власть над людьми".
Около Осиповой и ее семьи находил Пушкин приют и ласку. У нее спасался от воркотни своих стариков, пока они еще были в Михайловском, вместе с Левушкой волочился в Тригорском за барышнями. Вероятно, это было не очень опасное волокитство, иначе Пушкин не стал бы писать брату красавиц, студенту Алексею Вульфу:
Запируем – уж молчи!
Чудо - жизнь анахорета!
В Троегорском до ночи,
А в Михайловском до света;
К этому письму приписка Анны Вульф. Она просит брата уговорить поэта Языкова, тоже студента Дерптского университета, приехать к ним, "так как Пушкин этого очень желает", и прибавляет: "Сегодня я тебе писать много не могу. Пушкины оба у нас, и теперь я пользуюсь случаем, пока они оба ушли в баню".
Тригорская баня стояла в конце сада, на реке Сороть. Пушкин в ней мылся, ночевал, иногда писал. Кажется, в этой бане написал он величавые "Подражания Корану", которые он посвятил Осиповой.
Гениальный друг доставлял преданной соседке немало хлопот и волнений, то серьезных, то забавных. Когда Пушкин внезапно появился в Михайловском, Осипова опять была вдовой и в Тригорском царила женская стихия. Двое младших сыновей были еще детьми, сын от первого брака, дерптский студент, Алексей Николаевич Вульф (1805–1881), приезжал только на каникулы. Зато барышень была целая вереница: две сестры Вульф, Анна и Евпраксия, она же Зина и Зизи. Потом две девочки Осиповы, Екатерина и Мария… Да еще падчерица, хорошенькая Александра Ивановна Осипова, она же Алина, да еще кузины и племянницы, среди которых была и кокетливая Нелли, и победоносная соблазнительница Анна Керн, единственная из всего хоровода, в кого поэт был, хотя и недолго, но крепко влюблен.
В наполненный молодежью дом появление Пушкина вносило оживление, усиливало говор и смех, тот веселый шорох женской жизни, к которому Пушкин всегда был неравнодушен. Языков подробно описал стихами милые мелочи тригорской жизни – гулянья, купанья, тихую прелесть северного пейзажа:
Там, у раздолья, горделиво,
Гора трихолмная стоит;
На той горе, среди лощины,
Перед лазоревым прудом,
Белеется веселый дом
И сада темные куртины,
Село и пажити кругом…
И часто вижу я во сне:
И три горы, и дом красивый,
И светлой Сороти извивы
Златого месяца в огне,
И там, у берега, тень ивы…
И те отлогости, те нивы,
Из-за которых, вдалеке,
На вороном аргамаке,
Заморской шляпою покрытый,
Спеша в Тригорское, один -
Вольтер и Гёте и Расин -
Являлся Пушкин знаменитый.
Только поэту позволительно говорить о красоте тригорского дома. Длинный, деревянный, одноэтажный, похожий на казарму, он был выстроен без всяких претензии на архитектурную красоту, так как предназначался под полотняный завод. Позже его удачно приспособили для барского житья. Многочисленной семье было в нем удобно и просторно. Комнат было много. Была длинная танцевальная зала, где вдоль стен, как полагалось, чинно стояли стулья. Была просторная гостиная, где барышни играли на фортепьяно, пели или, склонив к стоявшим у окна пяльцам хорошенькие головки с длинными модными локонами, вышивали бесконечных собачек с выпученными глазами… Отдельная комната была отведена под библиотеку. Пушкин, ненасытный читатель, часто пользовался книгами Осиповой, бесцеремонно делал на их полях заметки. Книги, по которым в начале XIX века прошелся карандаш Пушкина, остались стоять на тех же полках до 1918 года, пока крестьяне, а может быть, специально посланные революционерами агитаторы, не сожгли тригорский дом.
Дом стоял у пруда, окруженный большим садом, переходившим в лес. В теплые, томные летние вечера молодежь под музыку бродячего еврейского оркестра танцевала под открытым небом, на лужайке, окаймленной липами. В памяти осиповской семьи сад сросся с Пушкиным, с его шалостями и фантазиями.
Осипова была хозяйка, хлопотунья, одержимая страстью все перестраивать и менять. Она нашла, что одна старая, развесистая береза застилает ей вид на озеро, и приказала срубить ее. Пушкин любил деревья, обращался к ним в стихах, как к живым существам. Пушкинский кипарис в Гурзуфе и три сосны на пригорке над Михайловским крепко связаны с его памятью. Сюда же надо ввести и развесистую березу в Тригорском. Он уговорил Осипову не трогать ее. В Тригорском рассказывали, что береза недолго пережила своего спасителя: в год его смерти ее разбила молния.
Это одна из легенд, которыми соседки окружили память поэта. После смерти знаменитых людей, нередко даже те, кто при жизни не умел их ценить, с запоздалым благоговением сочиняют про них целые истории. Но тригорские соседки, не дожидаясь посмертной славы, ощутили чудесную легендарность Пушкина. Они поддались обаянию живого Пушкина, заражались его весельем, мирились с переменчивостью его настроения, баловали, просто любили его. Их любовь скрасила ему деревенскую ссылку. Он привязался к своим тригорским друзьям. Уже женихом прелестной Ташеньки Гончаровой, сидя один в Болдине, вспомнит он о них:
О, где б судьба ни назначала
Мне безыменный уголок,
Где б ни был я, куда б ни мчала
Она смиренный мой челнок,
Где поздний мир мне б ни сулила,
Где б ни ждала меня могила -
Везде, везде в душе моей
Благословлю моих друзей,
Нет, нет! нигде не позабуду
Их милых, ласковых речей…
Воображать я вечно буду…
И берег Сороти отлогий,
И полосатые холмы,
И в роще скрытые дороги,
И дом, где пировали мы -
Приют, сияньем Муз одетый,
Младым Языковым воспетый.
(18 сентября 1830 г.)
Бесхитростный, но тем более ценный рассказ о Пушкине в Тригорском сохранил М. И. Семевский, который 30 лет спустя после смерти поэта ездил в Михайловское, чтобы собрать воспоминания о нем. Вот что он записал со слов младшей Осиповой, Марии:
"Каждый день, в часу третьем по-полудни, Пушкин являлся к нам из Михайловского. Приезжал он обыкновенно верхом на прекрасном аргамаке, а то бывало приволочится и на крестьянской лошаденке. Бывало, все сестры мои, да и я, тогда еще подросточек, выйдем ему навстречу. Раз тащится он на лошаденке крестьянской, ноги у него чуть ли не по земле волочатся, я и ну над ним смеяться и трунить. Он потом за мною погнался, все своими ногтями грозил, ногти же у него такие длинные, он их очень берег. Приходил, бывало, и пешком, доберется к дому тогда совсем незаметно, если летом окна бывали открыты, он влезет в окно. Все у нас, бывало, сидят за делом, кто читает, кто работает, кто за фортепьяно. Сестра Александрин дивно играла на фортепьяно. Я, бывало, за уроками сижу. Ну, пришел Пушкин, – все пошло вверх дном: смех, говор, шутки так и раздаются по всем комнатам… А какой он был живой. Никогда не посидит на месте, то ходит, то бегает… Я, бывало, все дразню и подшучиваю над Пушкиным. В двадцатых годах была мода вырезывать и наклеивать разные фигурки из бумаги. Я вырежу обезьяну и дразню Пушкина, он страшно рассердится, а потом вспомнит, что имеет дело с ребенком, и скажет только: "вы юны, как апрель".
"И что за добрая душа был этот Пушкин, всегда в беде поможет. Маменьке вздумалось, чтобы я принялась зубрить Ломоносовскую грамматику. Я принялась, но, разумеется, это дело мне показалось адским мучением. "Пушкин, заступитесь!" Стал он громко говорить маменьке, и так убедительно, что она совсем смягчилась. Тогда же Пушкин сказал ей, я вот отродясь не учил грамматики и никогда ее не знал, а вот, слава Богу, пишу помаленьку и не совсем безграмотен, тогда маменька окончательно оставила Ломоносова".
Пушкин тем охотнее заступился за школьницу, что сам всю жизнь делал ошибки в русском правописании. По-французски он писал грамотнее, чем по-русски.
Анненков побывал в Тригорском раньше Семевского, в пятидесятых годах. Ему посчастливилось уловить более трепетные отзвуки Пушкинской эпохи: "Пусть же теперь читатель представит себе деревянный длинный, одноэтажный дом, наполненный всей этой молодежью, весь праздный шум, говор, смех, гремевший в нем с утра до ночи, все маленькие интриги, борьбу молодых страстей, кипевших в нем без устали. Пушкин был перенесен из азиатского разврата Кишинева прямо в русскую помещичью жизнь, в наш обычный тогда дворянский сельский уют, который так превосходно изображал поэт. Он был светилом, вокруг которого вращалась вся эта жизнь, он тешился ею, сам оставаясь постоянным зрителем и наблюдателем ее, даже когда думали, что он без оглядки плывет с нею. Дело, конечно, не обходилось без крошечных драм, без ревностей и катастроф".
Сам Пушкин в Тригорском не переживал катастрофических страстей. Он то по очереди, то одновременно ухаживал за всеми красавицами трех гор. Это была веселая, беспечная игра в любовь. Он платил за нее стихами и обессмертил и Нелли, и Алину, и Зизи. Лучшее из этих стихотворений досталось Алине, падчерице Осиповой, которой он если и увлекался, то очень мимолетно. Но ей посвятил он "Признание". Сколько поколений русских влюбленных потом повторяло его своим возлюбленным:
Я вас люблю, - хоть и бешусь,
Хоть это труд и стыд напрасный,
И в этой глупости несчастной
У ваших ног я признаюсь…
Когда я слышу из гостиной
Ваш легкий шаг, иль платья шум,
Иль голос девственный, невинный,
Я вдруг теряю весь свой ум.
Вы улыбнетесь - мне отрада,
Вы отвернетесь - мне тоска,
За день мучения - награда
Мне ваша бледная рука.
Когда за пяльцами прилежно
Сидите вы, склонясь небрежно,
Глаза и кудри опустя, -
Я в умиленьи, молча, нежно
Любуюсь вами, как дитя!..
(1824)
Старшая из дочерей, Анна Вульф, ровесница поэта, имела неосторожность действительно сильно влюбиться в него, а он ее безжалостно дразнил. Ее пятнадцатилетняя сестра, златокудрая Евпраксия – Зизи, сама дразнила своим полудетским кокетством и Пушкина, и поэта Языкова, тогда еще студента.
Со слов А. Н. Вульф, М. И. Семевский записал: "Сестра Евдоксия, бывало, заваривает всем нам после обеда жженку. Сестра прекрасно ее варила, да и Пушкин, ее всегдашний и пламенный обожатель, любил, чтобы она заваривала жженку. И вот мы из больших бокалов сидим, беседуем, да распиваем пунш. И что за речи несмолкаемые, что за звонкий смех, что за дивные стихи, то Пушкина, то Языкова, сопровождали нашу дружескую пирушку. Языков был страшно застенчив, да и тот, бывало, разгорячится, пропадет застенчивость".
Серебряный ковшик с длинной ручкой, в котором Зизи варила пунш, долго хранился в Тригорском, как память об этих веселых днях.
В один ясный июньский день он вошел, как всегда без доклада, в тригорскую столовую и среди знакомых женских лиц неожиданно увидел новую гостью – белокурую красавицу Анну Керн.
Они встречались еще раньше, но открыл ее Пушкин по-настоящему только в Тригорском.
"Восхищенная Пушкиным, – пишет Анна Керн, – я страстно хотела увидеть его, и это желание исполнилось во время пребывания моего в доме тетки, в Тригорском, в июне 1825 года. Вот как это было. Мы сидели за обедом. Вдруг вошел Пушкин с большой толстой палкой в руках. Он после часто к нам являлся во время обеда, но не садился за стол: он обедал у себя гораздо раньше и ел очень мало. Приходил он всегда с большими дворовыми собаками, волкодавами. Тетушка, около которой я сидела, мне его представила, он очень низко поклонился, но не сказал ни слова. Робость видна была во всех его движениях. Я тоже не нашлась, и мы не скоро ознакомились и разговорились. Да и трудно было с ним вдруг сблизиться, он был очень неровен в обращении, то шумно весел, то грустен, то робок, то дерзок, то нескончаемо любезен, то томительно скучен, и нельзя было угадать, в каком он будет расположении духа через минуту… Он не умел скрывать своих чувств, выражал их всегда искренно и был несказанно хорош, когда что-нибудь приятное волновало его. Когда он решался быть любезным, то ничто не могло сравняться с блеском, остротой и увлекательностью его речи… Он был невыразимо мил, когда задавал себе тему угощать и развлекать общество. Однажды с этой целью явился он в Тригорское со своей большой черной книгой, на полях которой были начерчены ножки и головки, и сказал, что он принес ее для меня. Вскоре мы уселись вокруг него, и он прочел нам своих "Цыган"… Я никогда не забуду того восторга, который охватил мою душу. Я была в упоении как от текучих стихов этой чудной поэмы, так и от его чтения, в котором было столько музыкальности, что я истаивала от наслаждения. Он имел голос певучий, мелодический и, как он говорит про Овидия в своих "Цыганах":
И голос, шуму вод подобный…"
Их сразу потянуло друг к другу. Оба были молоды. У обоих была горячая кровь. Оба были свободны. О том, что где-то существует генерал Керн, было просто смешно вспоминать. В приволье непринужденной помещичьей жизни любилось легко, весело, без обязательств, без мыслей о завтрашнем дне. Они просто обеими руками черпали радость жизни. То, что приходилось хитрить, обманывать бдительность тетки, кузин, всех домочадцев, увеличивало пряность игры, в которую оба игрока уже играли не в первый раз, которую они разыгрывали с ветреностью, как герои Бомарше, любимца Пушкина. В роман поэта с хорошенькой генеральшей вплелись ухаживания за ней ее кузена, Алексея Вульфа, вздохи другой Анны, бедной Анны Вульф, все еще влюбленной в Пушкина, трогательно и беспомощно. Она отступила без боя. Где же ей, деревенской барышне, тягаться с такой неотразимой и опытной кокеткой, как ее белокурая кузина. Хотя портретов Анны Керн нет, но по рассказам ее поклонников мы знаем, что у нее было круглое личико, маленький пухлый рот, большие, томные глаза. Ее мягкая красота, ее ленивая грация, ее голос кружили головы.
Возможно, что и старшая из тригорских поклонниц Пушкина, тетушка Прасковья Александровна, уловила чересчур соблазнительные взгляды племянницы и нашла, что атмосфера влюбленности слишком сгущается в ее доме. Она не рассчитывала на благоразумие Анны, еще меньше на сдержанность Александра. Поэтому, забравши обеих Анн, и дочь и племянницу, Осипова внезапно уехала на морские купанья в Ригу. Опять оторвали Пушкина от его возлюбленной, но эта разлука не была трагической
Утром, в день их отъезда, Пушкин принес Анне Керн вторую главу "Евгения Онегина" и в нес вложил листок, на котором написал:
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Kак мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты…
"Когда я собиралась спрятать в шкатулку этот поэтический подарок, он долго на меня смотрел, потом судорожно выхватил и не хотел возвращать; насилу выпросила я их опять; что у него промелькнуло тогда в голове, не знаю".
"Пушкин бывал у покойной нашей барыни почти каждодневно. Добрый был, да ласковый, но только немного тронувши был. Идет, бывало, из усадьбы с нашими барышнями по Тригорскому с железной палочкой. Надо полагать, от собак брал он ее с собой. Бросит ее вверх. Схватит свою шляпу с головы и начнет бросать на землю или опять вверх, а сам попрыгивает да поскакивает. А то еще чудесней: раз это иду я по дороге в Михайловское, а он мне навстречу. Остановился вдруг ни с того ни с сего, словно столбняк на него нашел, ажно я испугался, да в рожь и спрятался, и, смотрю, он вдруг так громко разговаривать промеж себя стал на разные голоса, да руками все разводит, совсем как тронувши. Частенько мы его видали по деревням на праздниках. Бывало, придет в красной рубахе и смазных сапогах, станет с девками в хоровод и все слушает, да слушает, какие они песни поют, и сам с ними пляшет и хоровод водит".
Это рассказ бывшего крепостного Осиповой, записанный, когда Россия справляла столетие со дня рождения Пушкина, когда внезапно вспыхнул, разгорелся, обновился интерес к поэту.
Вдохновение часто слетало к нему, когда он ездил верхом. Чтобы не растерять уже зазвучавшие в мозгу рифмы, он подгонял коня. Так, по дороге из Тригорского в Михайловское сочинил он свидание Марины с Дмитрием у фонтана, единственную любовную сцену в "Годунове". Когда Пушкин вернулся домой, оказалось, что у него нет чернил. Он отложил запись, потом корил себя за это, считая, что первая, ускользнувшая из его памяти версия, была лучше второй.
Михайловская ссылка оказалась спасительной для Пушкина. Декабрьские события 1825 года были для него не так катастрофичны по последствиям, как для его друзей.
Буря пролетела далеко от Пушкина. Известия доходили медленно до Михайловского. О смерти Александра поэт узнал только две недели спустя и вообразил, что теперь с него снимут опалу. Он писал Катенину:
"Может быть, нынешняя перемена сблизит меня с моими друзьями. Как верный подданный, должен я, конечно, печалиться о смерти Государя, но, как поэт, радуюсь восшествию на престол Константина, в нем очень много романтизма, бурная его молодость, походы с Суворовым, вражда с немцем Барклаем, напоминают Генриха V. К тому ж он умен, а с умными людьми все как-то лучше; словом, я надеюсь от него много хорошего… Признаюсь, мочи нет, хочется к вам" (4 декабря 1825 г.).
Через несколько дней он писал Плетневу:
"Милый, дело не до стихов, – слушай в оба уха (одно из неуклюжих выражений Кюхельбекера – А. Т.-В.). Если я друзей моих не слишком отучил от ходатайства, вероятно, они вспомнят обо мне. Если брать так брать – не то что и совести марать – ради Бога, не просить у Царя позволения мне жить в Опочке или в Риге. Чорт ли в них? А просить или о въезде в столицы, или о чужих краях. В столицу хочется мне для вас, друзья мои, – хочется с вами еще перед смертью поврать; но, конечно, благоразумнее бы отправиться за море. Что мне в России делать?.. Выписывайте меня, красавцы мои, а не то не я прочту вам трагедию свою" (начало декабря 1825 г.).
Но друзьям было не до него и не до его трагедии. Декабрьское восстание вызвало среди них панику, оцепенение, у некоторых резкое осуждение.
Не получая ни от кого писем, Пушкин еще во время междуцарствия решил поехать в Петербург, узнать, что там делается. Только вера в дурные приметы удержала его от этой поездки. Собравшись в Петербург, он поехал проститься к тригорским соседкам, заяц два раза перебежал ему дорогу. Быть может, это был прямой потомок того зайца, который за тринадцать лет перед тем, в июне 1812 года, когда началась переправа французской армии через Неман, бросился под ноги лошади Наполеона, дал великому полководцу свое звериное предостережение. Император чуть не свалился с шарахнувшейся лошади, а среди маршалов, по словам Коленкура, прошел тревожный ропот. Они тогда же решили, что поход на Московию не кончится для великой армии добром.
И Пушкина заяц смутил. Раздосадованный, вернулся он в Михайловское, где ему доложили, что слуга, которого он хотел взять с собой, внезапно заболел. Пушкин приказал другому человеку собраться в путь. Отправились. Только что выехали за ворота, как навстречу им поп. Этого Пушкин не выдержал, повернул обратно и остался дома.
Этот рассказ слышали от него многие: тригорские приятельницы, Погодин, Вяземский, Нащокин, Соболевский, который так записал слова Пушкина: "Вот каковы были бы последствия моей поездки. Я рассчитывал попасть в Петербург поздно вечером 13 декабря и попал бы к Рылееву прямо на совещание. Меня приняли бы с восторгом и, вероятно, забыли бы о Вейсхаупте (Weishaupt), я пошел бы на следующий день с прочими на Сенатскую площадь. Не пришлось бы мне сидеть здесь с вами, друзья мои".
Упоминание о Вейсхаупте связано все с той же гадалкой Кирхгоф. Соболевский, свидетель довольно точный, в одной заметке своей рассказывает, что Кирхгоф предостерегала поэта, что он должен опасаться белой лошади, белого человека, белой головы и что Пушкин из-за этого отстранился от масонства и не вступил в тайное общество.
"Разве ты не знаешь, что все филантропические и гуманитарные общества, даже само масонство получили от Адама Вейсхаупта направление подозрительное и враждебное государственному порядку. Как же мне было приставать к ним?"
Пушкин своей веры в приметы не скрывал. Говорил о ней полушутя, но за шутками скрывалась странная настороженность. Он знал, что судьба его караулит.
Он остался в Михайловском. Его мучила полная неизвестность о том, что делается в Петербурге, что собираются делать его друзья-заговорщики. Чтобы отвлечься от тревожных мыслей, он написал "Графа Нулина", повесть в стихах, шуточную, брызжущую весельем. В его бумагах сохранилась запись, как зародилась эта повесть.
"В конце 1825 г. находился я в деревне. Перечитывая Лукрецию, довольно слабую поэму Шекспира, я подумал, что если б Лукреции пришло в голову дать пощечину Тарквинию?.. Лукреция б не зарезалась. Публикола не взбесился бы – и мир и история мира были бы не те… Мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась. Я не мог противиться двойному искушению и в два утра написал эту повесть. Я имею привычку на моих бумагах выставлять год и число. "Гр. Нулин" писан 13 и 14 дек… бывают странные сближения".
Так, в то утро, когда его мятежные друзья теснились около памятника Петру, Пушкин писал забавную повесть, которую Николай позже милостиво похвалил.
Не от своих столичных друзей, от Арсения, крепостного повара Осиповой, узнал Пушкин о бунте.
"Осень и зиму 1825 г. мы мирно жили у себя в Тригорском, – рассказывала тридцать лет спустя одна из дочерей Осиповой М. И. Семевскому. – Пушкин, по обыкновению, бывал у нас почти каждый день, а если, бывало, засидится и заработается у себя дома, так и мы с матушкой к нему ездили. Вот однажды, под вечер, зимой сидели мы все в зале за чаем, Пушкин стоял у печки. Вдруг матушке докладывают, что приехал повар Арсений. Обыкновенно каждую зиму посылали мы его с яблоками в Петербург. Там эти яблоки и разную деревенскую провизию Арсений продавал, а на вырученные деньги покупал сахар, вино и т. п. нужные для деревни запасы. На этот раз он явился назад совершенно неожиданно, яблоки продал и деньги привез, ничего на них не купивши.
Арсений рассказывал, что в Петербурге бунт, всюду заставы и караулы, насилу выбрался на заставу, нанял почтовых и поспешил в деревню. Пушкин, услыша рассказ Арсения, страшно побледнел. В этот вечер он был очень скучен и говорил мне что-то о существовании тайного общества, но что, не помню".
Несколько времени спустя в "Русском Инвалиде" начали печатать правительственные сообщения о бунте и следствии. Каждый день Пушкин узнавал о новых арестах. Круг замыкался. Он был уверен, что и ему не миновать ареста. Набрасывая родословную своих предков, он писал позже:
"В конце 1825 г., при открытии несчастного заговора, я принужден был сжечь свои тетради, которые могли замешать многих, а может быть, и умножить число жертв. Не могу не сожалеть об их потере. Они были любопытны. Я в них говорил о людях, которые после сделались историческими лицами, со всей откровенностью дружбы и короткого знакомства" (1830).
Эти слова подтверждают его связь с декабристами. Среди них он жил, начиная с Лицея. Он знал князя С. Трубецкого, Н. М. Муравьева, князя Илью Долгорукова, Лунина, Якушкина, М. Ф. Орлова, В. Д. Давыдова, князя Волконского, А. И. Якубовича, Я. Н. Толстого, Охотникова, встречался в Кишиневе с Пестелем, был дружен с Кюхельбекером и Пущиным. Он переписывался с Рылеевым и А. Бестужевым. Свою дружбу с заговорщиками он не пытался скрывать, скорее подчеркивал ее:
"Я был в связи почти со всеми и в переписке со многими заговорщиками", – писал он Вяземскому. Оглядываясь на десять лет своей сознательной жизни, вспоминая Лицей, лекции либеральных профессоров, разговоры с либеральными гусарами, Арзамас, Зеленую Лампу, политические беседы с Чаадаевым и братьями Тургеневыми, демократические обеды в Каменке у Орловых, даже разговоры с Инзовым об Гишпанской революции и о конституции кортесов, Пушкин не мог, да и не хотел, отрицать своей духовной связи с либералистами.
Никто из заговорщиков не сумел выразить мечты и упования новорожденного русского либерализма с такой ясностью, с такой поэтической силой, с таким заразительным пафосом, как Пушкин.
Вяземский, который не состоял в тайном обществе, писал: "Хотя Пушкин и не принадлежал к заговору, который приятели таили от него, но он жил и раскалялся в этой вулканической атмосфере. Мы все более или менее дышали и волновались этим воздухом".
Мемуары современников, в особенности самих декабристов, подтверждают, какое влияние имели на них стихи Пушкина. Вот, что они сами писали:
"Не было грамотного прапорщика артиллерии, который не знал бы его стихов. Во всех дружеских кружках молодые люди читали его сочинения, дышушие свободой" (Якушкин).
"Стихи Пушкина читались и повторялись во всех дружеских кружках" (Беляев).
"Кто из молодых людей не читал и не увлекался сочинениями Пушкина, дышащими свободой" (барон Штенгель).
Это было хорошо известно следственной комиссии по делу декабристов. Среди 29 вопросов, предъявленных майору Н. И. Лореру, был такой вопрос: "Говорили ли вы некоторым членам общества, что в местечке Линце есть шпион и что полковник Пестель спрятал свои бумаги в бане, а вы и поручик Гориславский сожгли сочинения Пушкина?"
Комиссия доискивалась, где бумаги Пестеля, хотела найти рукопись "Русской Правды", этой хартии вольностей, составленной Пестелем. Насчет бумаг Пестеля Лорер отозвался неведением, "а насчет же сочинений П-на, я чистосердечно признаюсь, что я их не жег, ибо я не полагал, что они сомнительны, знаю, что почти у каждого находятся и кто их не читал".
В ответ на вопрос комиссии, "с которого времени и откудова заимствовали они свободный образ мыслей, т. е. от общества ли, или от внушения других, или от чтения книг, или от сочинения в рукописях?", многие декабристы указали на Пушкина.
Щеголев в книге "Пушкин" пишет, что "это создавало впечатление о Пушкине, как об опасном и вредном для общества вольнодумце, рассевавшем яд свободомыслия в обольстительной поэтической форме. С такой же определенной репутацией человека неблагонадежного и зловредного должен был войти поэт в сознание одного из деятельнейших членов упомянутой комиссии – генерал-адъютанта А. X. Бенкендорфа. Такое же представление сложилось о нем и у Николая I".
Пушкин всю жизнь платился за неосторожную откровенность декабристов, но мог поплатиться еще дороже.
До самой могилы его преследовало то более, то менее затаенное недоверие шефа жандармов и его державного начальника. Это было тем более незаслуженно, что во время бунта Пушкин уже перестал быть бунтовщиком. Он тоже хотел "вполне и искренно помириться с правительством". Он сомневался в пригодности своих либеральных друзей осуществить те высокие государственные задания, о которых они так много и горячо спорили.
Перемена в нем началась еще на юге. Вяземский, который очень хорошо знал политические взгляды Пушкина, писал: "На политическом поприще, если бы оно открылось перед нами, он несомненно был бы либеральным консерватором, а не разрушающим либералом… Он часто бывал Эолова арфа либерализма на пиршествах молодежи, и отзывался теми веяниями, теми голосами, которые налетали на него. Не менее того он был искренним, но не был сектатором в убеждениях или предубеждениях, а тем более, не был сектатором чужого предубеждения. Он любил чистую свободу, как любить ее должно, как не может не любить ее каждое молодое сердце, каждая благородная душа… Но из этого не следует, чтобы каждый свободолюбивый человек был непременно и готовым революционером. Политические сектаторы 20-х годов очень это чувствовали и применяли такое чувство и понятие к Пушкину. Многие из них были его приятелями, но они не находили в нем готового соумышленника и к счастью, его самого и России, они оставили его в покое, оставили в стороне. Этому их соображению и расчету их можно приписать спасение Пушкина от крушения 25-го года".
Через пять лет после декабрьского бунта Пушкин написал десятую главу "Онегина", где дал очень откровенную оценку заговорщикам. Судя по тому, как Вяземский называл ее "славной хроникой", в ней была обычная пушкинская меткость.
Сначала эти заговоры
Между Лафитом и Клико,
Лишь были дружеские споры,
И не входила глубоко
В сердца мятежная наука…
…
Все это было только скука,
Безделье молодых умов,
Забавы взрослых шалунов…
(1830)
К несчастью, до нас дошли только немногие разрозненные строфы и строки, но так писать мог Пушкин только позже, когда неудержимая писательская потребность выразить свой опыт в словах пересилила другие соображения. Сразу после бунта казнь пятерых, суровые меры, обрушившиеся на остальных, лишали Пушкина, да и не его одного, возможности свободно высказаться. Критика могла быть истолкована как отреченье от гонимых. Сидя в Михайловском, Пушкин не мог знать, что накануне 14 декабря часть заговорщиков была в мыслях своих близка ему, что после этого рокового дня некоторые из них подвергли горькой, суровой переоценке себя и свою деятельность.
Мысль о декабристах неотступно стояла перед поэтом. Об этом говорят и письма его, и его черновые тетради, испещренные рисунками. Пушкин был хороший рисовальщик, любил набрасывать то на полях, то среди текста женские ножки, лица, карикатуры, целые сцены. В своих рабочих тетрадях и в альбомах своих приятельниц нарисовал он больше полусотни собственных портретов. Некоторые из них живее передают его подвижное, неправильное лицо, чем его портреты, писанные лучшими художниками. Он не щадил себя и оставил несколько автокарикатур, по-видимому, очень метких.
Рисунки Пушкина редко были иллюстрациями к тексту, они чаще отражали настроения или мысли, не связанные с ним. В начале января 1826 года Пушкин писал V главу "Онегина", где есть описание вещего сна Татьяны. Поля страниц, на которых написана эта глава, исчерчены портретами в профиль. Тут Мирабо, Вольтер, рядом с ними Рылеев, Пестель, Каховский. Тут же автопортрет, где Пушкин придает себе сходство с Робеспьером. К своему характерному профилю прибавил он высокий галстук, надменную сухость, откинутые назад волосы французского трибуна. Дальше на двух страницах несколько раз рисует он профиль Пестеля. В это время Пушкин вряд ли мог знать, что 3 января руководителя Южного общества привезли с юга в Петропавловскую крепость. Но в эти недели тревоги и неизвестности, когда его так беспокоила судьба декабристов, его преследовали резкие черты Пестеля. Пушкин знал, какую значительную роль играет Пестель среди заговорщиков, и был хорошо осведомлен об их внутренних отношениях. В семье Осиповой долго хранился листок, на котором Пушкин нарисовал портреты главных декабристов.
Еще одна любопытная подробность. На тех же страницах, где на полях и среди текста портреты заговорщиков, идут строфы о Татьяне:
Татьяна верила преданьям
Простонародной старины,
И снам, и карточным гаданьям,
И предсказаниям луны.
Ее тревожили приметы:
Таинственно ей все предметы
Провозглашали что-нибудь…
…
Когда случалось где-нибудь
Ей встретить черного монаха,
Иль быстрый заяц меж полей
Перебегал дорогу ей, -
Не зная, что начать со страха,
Предчувствий горестных полна,
Ждала несчастья уж она.
(Гл. V. Стр. V и VI)
Это описание его собственной веры в приметы, которая удержала его от поездки в Петербург. Так мысли о странных предостережениях, которые иногда дает нам судьба, сплетались с мыслями о декабристах.
Молчание друзей и неопределенность собственного положения становились мучительными. Пушкин решил пойти навстречу событиям и отправил Жуковскому письмо, похожее на показание. По смелости и прямоте оно настолько характерно для Пушкина, что надо его прочесть целиком:
"Я не писал к тебе, во-первых, потому, что мне было не до себя, во-вторых, за неимением верного случая. Вот в чем дело: мудрено мне требовать твоего заступления пред Государем; не хочу охмелить тебя в этом пиру. Вероятно, правительство удостоверилось, что я заговору не принадлежу и с возмутителями 14-го декабря связей политических не имел, – но оно в журналах объявило опалу и тем, которые, имея какие-нибудь сведенья о заговоре, не объявили о том полиции. Но кто ж, кроме полиции и Правительства, не знал о нем? О заговоре кричали по всем переулкам, и это одна из причин моей безвинности. Все-таки я от жандарма еще не ушел, легко, может, уличат меня в политических разговорах с каким-нибудь из обвиненных. А между ими друзей моих довольно. (NB. Оба ли Раевские взяты и в самом ли деле они в крепости? Напиши, сделай милость.) Теперь положим, что Правительство и захочет прекратить мою опалу, с ним я готов условливаться (буде условия необходимы), но вам решительно говорю, не отвечать и не ручаться за меня. Мое будущее поведение зависит от обстоятельств, от обхождения со мною Правительства etc.
Итак, остается тебе положиться на мое благоразумие. Ты можешь требовать от меня свидетельств об этом новом качестве. Вот они.
В Кишиневе я был дружен с майором Раевским, с генералом Пущиным и Орловым.
Я был масон в Киш. ложе, т. е. в той, за которую уничтожены в России все ложи.
Я, наконец, был в связи с большею частью нынешних заговорщиков.
Покойный Император, сослав меня, мог только упрекнуть меня в безверии.
Письмо это неблагоразумно, конечно, но должно же доверять иногда и счастию. Прости, будь счастлив, это покаместь первое мое желание.
Прежде чем сожжешь это письмо, покажи его Кар… и посоветуйся с ним. Кажется, можно сказать Царю: В. В., если Пушкин не замешан, то нельзя ли, наконец, позволить ему возвратиться?
Говорят, ты написал стихи на смерть Алекс. – предмет богатый! Но в теченьи десяти лет его царствования лира твоя молчала. Это лучший упрек ему. – Никто более тебя не имел права сказать: глас лиры, глас народа. Следств. я не совсем был виноват, подсвистывая ему до самого гроба" (вторая половина января 1826 г.).
Дельвигу Пушкин писал:
"Вы обо мне беспокоитесь, и напрасно. Я человек мирный. Но я беспокоюсь, и дай Бог, чтобы было понапрасну. Мне сказывали, что А. Раевский под арестом. Не сомневаюсь в его политической безвинности. Но он болен ногами, и сырость казематов будет для него смертельна. Узнай, где он, и успокой меня" (вторая половина января 1826 г.).
Но и Дельвиг молчал.
30 декабря вышел первый том "Стихотворений Александра Пушкина". Изданием книги занимался Плетнев, который делал для поэта все, на что оказался непригоден Левушка, был поверенным, советчиком, посредником между автором, цензурой и книгопродавцами, бескорыстно исполнял обязанности издателя и казначея. Посылая книгу, он спрашивал, доволен ли Пушкин изданием, докладывал, что у него на руках скопилось уже четыре тысячи рублей, торопил с изданием следующих книг: "Умоляю тебя напечатать одну или две вдруг главы "Онегина", отбоя нет, все жадничают его. Хуже будет, когда простынет жар. Уж я и то боюсь, стращают меня, что в городе есть списки второй главы" (21 января 1826 г.).
В жизни каждого поэта появление его первой книжки стихов большое событие. Пушкин почти десять лет мечтал выпустить этот первый том, подбирал и готовил для него стихи. А теперь только тремя строчками поблагодарил своего преданного друга: "Душа моя, спасибо за "Стих. Ал. П.", издание очень мило; кое-где ошибки, это в фальшь не ставится. – Еще раз благодарю сердечно и обнимаю дружески" (около 21 января 1826 г.).
И сейчас же нетерпеливо перешел к волновавшим его событиям, на которые в длинном письме Плетнева нет даже намека:
"Что делается у вас в Петербурге? Я ничего не знаю. Все перестали ко мне писать. Верно вы полагаете меня в Нерчинске. Напрасно, я туда не намерен – но неизвестность о людях, с которыми я находился в короткой связи, меня мучает. Надеюсь для них на милость царскую. Кстати: не может ли Ж. узнать, могу ли я надеяться на Высочайшее снисхождение, я 6 лет нахожусь в опале, а что ни говори, – мне всего 26. Покойный Имп. в 1824 г. сослал меня в деревню за две строчки не-религиозные – других художеств за собой не знаю. Ужели молодой наш Царь не позволит удалиться куда-нибудь, где бы потеплее, если уж никак нельзя мне показаться в ПБ. Прости, душа моя, скучно, мочи нет".
Книга стихотворений разошлась в несколько недель, но и это не заставило Пушкина отдать в печать "Цыган", "Бориса Годунова", ряд окончательно отделанных первоклассных стихотворений, которые лежали у него в столе. Плетнев настойчиво просил дать ему "Бориса Годунова" и следующие главы "Онегина", ручаясь за денежный успех, а Пушкин в ответ ему писал:
"А ты хорош! пишешь мне: переписывай, да нанимай писцов Опоческих, да издавай Онегина. Мне не до Онегина Черт возьми Онегина! Я сам себя хочу издать или выдать в свет. Батюшки помогите!.." (3 марта 1926 г.).
Наконец даже власти забеспокоились, почему Пушкин не присылает в цензуру свою трагедию. Петербургский генерал-губернатор, граф П. В. Голенищев-Кутузов, докладывал начальнику Генерального штаба генералу Н. И. Дибичу: "Относительно трагедии "Борис Годунов", известно, что Пушкин писал Жуковскому, что оная не прежде им будет выдана в свет, как по снятии с него запрещения въезжать в столицу".
Это полицейское толкование писем Пушкина к друзьям показывает, с каким недоверием в правительственных кругах следили за ним. Его приятели это знали. Пушкин поручил Плетневу поднести Карамзину книгу стихов. На ней стоял эпиграф из Проперция Aetas prima canat Veneras, Extrema tumultus. "В раннем возрасте мы воспевали любовь, в позднейшем смятение". Карамзин прочел эпиграф и укоризненно сказал Плетневу:
"Что вы делаете, вы губите молодого человека!"
Плетнев пояснил, что здесь подразумеваются душевные смятения, а не мятежи, но самая тревога Карамзина, хорошо знавшего придворные настроения, показывает, с какой недоброжелательной подозрительностью там относились к каждому слову поэта. А Пушкин доверчиво ждал, что судьба скоро изменится к лучшему, и недоумевал, почему Жуковский молчит, почему молчат друзья. Первым откликнулся Дельвиг. Его письмо до нас не дошло. Судя по ответу Пушкина, в нем были советы сидеть тихо и ждать, пока минует буря:
"Насилу ты мне написал и то без толку, душа моя, – писал Пушкин Дельвигу. – Вообрази, что я в глуши ровно ничего не знаю, переписка моя отовсюду прекратилась, а ты пишешь мне, как будто вчера мы целый день были вместе и наговорились досыта. Конечно, я ни в чем не замешан, и если правительству досуг подумать обо мне, то оно в том легко удостоверится. Но просить мне как-то совестно, особенно ныне; образ мыслей моих известен. Гонимый 6 лет сряду, замаранный по службе выключкою, сосланный в глухую деревню за две строчки перехваченного письма, я, конечно, не мог доброжелательствовать покойному царю, хотя и отдавал полную справедливость истинным его достоинствам, – но никогда я не проповедывал ни возмущений, ни революции, – напротив. Класс писателей, как заметил Alfieri, более склонен к умозрению, чем к деятельности, и если 14 дек. доказало у нас иное, то на то есть особая причина. Как бы то ни было, я желал бы вполне и искренне помириться с правительством, и конечно, это ни от кого, кроме Его, не зависит. В этом желании более благоразумия, нежели гордости с моей стороны.
С нетерпением ожидаю решения участи несчастных и обнародование заговора. Твердо надеюсь на великодушие молодого нашего Царя. Не будем ни суеверны, ни односторонни – как Фр. трагики, но взглянем на трагедию взглядом Шекспира" (15 февраля 1826 г.).
Откликнулся наконец и Жуковский, но не прямо, а через Плетнева. Посылая Пушкину отчет о денежных делах, Плетнев прибавил: "Жуковский особенно просит прислать "Бориса". Он бы желал прочесть его сам и еще (когда ты позволишь) на лекции его. Другая его к тебе комиссия состоит в том, чтобы ты написал ему письмо серьезное, в котором бы сказал, что, оставляя при себе образ мыслей твоих, на кои никто не имеет никакого права, не думаешь никогда играть словами, которые противоречили бы какому-нибудь всеми принятому порядку. После этого письма он скоро надеется свидеться с тобой в его квартире" (27 февраля 1826 г.).
Пушкин сразу написал Жуковскому второе письмо, короткое, формальное, даже на "вы":
"Поручая себя ходатайству Вашего дружества, вкратце излагаю здесь историю моей опалы. В 1824 г. явное недоброжелательство графа Воронцова принудило меня подать в отставку. Давно расстроенное здоровье и род аневризма, требовавшего лечения, служили мне достаточным предлогом. Покойному Государю Императору не угодно было принять оного в уважение. Его Величество, исключив меня из службы, приказал сослать меня в деревню, за письмо, писанное года три тому назад, в котором находилось суждение об афеизме, суждение легкомысленное, достойное, конечно, всякого порицания.
Вступление на престол Государя Николая Павловича подает мне радостную надежду. Может быть, Его Величеству угодно будет переменить мою судьбу. Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости" (7 марта 1826 г.).
Друзья мало надеялись на скорую перемену в положении поэта. Даже Дельвиг, хорошо понимавший его горячую нетерпеливость, советовал сидеть смирно. Он писал: "Живи, душа моя, надеждами далекими и высокими, трудись для просвещенных внуков, надежды же близкие, земные, оставь на старание друзей твоих и доброй матери твоей. Они очень исполнимы, но не теперь. Дождись коронации, тогда можно будет просить царя, тогда можно от него ждать новой жизни для тебя" (7 апреля 1826 г.).
Несколько дней спустя пришло и долгожданное письмо Жуковского. Он хворал, был на письма ленив, а может быть, и оттого отмалчивался, что декабрьский бунт его глубоко опечалил. Жуковский уже много лет был близок к семье великого князя Николая Павловича, преподавал русский язык и русскую историю его жене, великой княгине, теперь царице Александре Федоровне. Ему было поручено воспитание старшего сына, будущего императора Александра II. Жуковский жил в Аничковом дворце. Возможно, что в день бунта он вместе с царскими детьми проехал в Зимний дворец по улицам, полным мятежными солдатами. Во всяком случае, он, как и Карамзин, провел этот страшный день в Зимнем дворце. У них обоих были друзья среди декабристов, что не мешало им считать заговорщиков бунтовщиками, если не преступниками, то уже, конечно, безумцами. Ведь даже либералы, как Вяземский, испуганно почуяли тяжелое значение этого дня для России. Вяземский был писатель смелый и независимый, но три года спустя в своей "Исповеди" он писал:
"Сей день, бедственный для России, и эпоха кроваво им ознаменованная, были страшным судом для дел, мнений и помышлений настоящих и давно прошедших. Мое имя не вписалось в его роковые скрижали".
Но Карамзин был прав, когда, стараясь смягчить участь декабристов, говорил Николаю Павловичу: "Государь, заблуждения и преступления этих молодых людей суть заблуждения и преступления нашего века".
Так думал и Пушкин, но друзья, с которыми он был давно разъединен ссылкой, продолжали, по меткому выражению Анненкова, считать его нераскаянным светским радикалом. Когда Жуковский наконец собрался ответить опальному поэту, его письмо звучало наставительно и укоризненно. Он объяснял свое молчание болезнью и тем, что "дельного отвечать тебе нечего. В теперешних обстоятельствах нет никакой возможности ничего сделать в твою пользу… Дай пройти несчастному этому времени. Я никак не могу изъяснить, для чего ты написал мне последнее письмо свое? Если оно только ко мне, то оно странно. Если же для того, чтобы его показать, то оно безрассудно. Ты ни в чем не замешан, это правда. Но в бумагах каждого из действовавших находятся стихи твои. Это худой способ подружиться с правительством. Ты знаешь, как люблю я твою Музу и как дорожу твоей благоприобретенной славою, ибо умею уважать поэзию, знаю, что ты рожден быть великим поэтом и мог бы быть честью и драгоценностью России. Но я ненавижу все, что ты написал возмутительного для порядка и нравственности. Наши отроки, при плохом воспитании, которое не дает им никакой подпоры в жизни, познакомились с твоими буйными, одетыми прелестью поэзии мыслями. Ты уже многим нанес вред неисцелимый – это должно заставить тебя трепетать. Талант ничего. Главное величие нравственное. Извини, эти строки из катехизиса. Я люблю тебя и твою Музу и желаю, чтобы вся Россия вас любила. Кончу началом: не просись в Петербург. Еще не время. Пиши "Годунова" и подобное: они отворят двери свободы. Присылай все, что будет сделано твоим добрым гением. То, что напроказит твой злой гений, оставь у себя: я ему не поклонник" (12 апреля 1826 г.).
Тяжело было Пушкину услыхать от Жуковского такую оценку своего вредного влияния на молодежь. Но эта откровенность не отразилась на их дружбе. В тот год им не удалось свидеться. Жуковский вскоре на три года уехал за границу лечиться. Когда он вернулся, они постоянно виделись, и дружба поэтов осталась неизменной до самой кончины Пушкина.
Пушкин в Михайловском особенно дорожил перепиской с друзьями, но после Декабрьского восстания вынужден был ее сократить, почти прекратить. От этой полосы его жизни до нас дошло мало писем. Среди них есть одно, едва ли не единственное из сотен его писем, где Пушкин говорит о своих любовных делах. Правда, эта любовь особого рода, это мимолетное сближение с рабыней, с собственной крепостной. В таких случаях можно было, согласно тогдашнему кодексу, сохранить репутацию порядочности, не соблюдая тех требований молчать, беречь имя возлюбленной, которые по отношению к женщинам, и в особенности к девушкам своего круга, считались обязательными.
3 января 1826 года, в самый разгар тревоги за друзей-декабристов, Пушкин в строфе "Евгения Онегина", перечисляя прелести деревенской жизни, мимоходом бросает:
Порой белянки черноокой
Младой и свежий поцелуй…
Пущин, который за год перед тем провел в Михайловском один день, помянул в своих "Воспоминаниях" хорошенькое личико, которое он заметил среди крепостных рукодельниц, трудившихся в девичьей, под командой Арины Родионовны. Он обменялся с Пушкиным выразительным взглядом, но ничего не сказал, ничего не спросил. Хотя в тех же "Воспоминаниях" Пущин с веселой резвостью рассказал, как вместе с Пушкиным ездил после Лицея в притоны. Эта сторона мужской жизни находит себе из века в век разные толкования и разные оправдания.
Возможно, что пушкинская белянка черноокая, пушкинская рукодельница и та, кого пушкинисты прозвали "крепостная любовь Пушкина", одно лицо. Что такая девушка была, это мы узнаем от самого Пушкина.
Был в Михайловском крепостной приказчик Калашников. Была у него дочь. С этой девушкой Пушкин сблизился. Он писал Вяземскому.
"Милый мой Вяземский, ты молчишь и я молчу, и хорошо делаем, потолкуем когда-нибудь на досуге… Письмо это тебе вручит очень милая и добрая девушка, которую один из твоих друзей неосторожно обрюхатил. Полагаюсь на твое человеколюбие и дружбу. Приюти ее в Москве и дай ей денег, сколько понадобится, а потом отправь в Болдино (в мою вотчину, где водятся курицы, петухи и медведи). Ты видишь, что тут есть о чем написать целое послание во вкусе Жуковского о попе, но потомству не нужно знать о наших человеколюбивых подвигах. При сем с отеческой нежностью прошу тебя позаботиться о будущем малютке, если то будет мальчик. Отсылать его в Воспитательный Дом мне не хочется, а нельзя ли его покаместь отдать в какую-нибудь деревню – хоть в Остафьево. Милый мой, мне совестно, ей Богу, но тут уж не до совести" (начало мая 1826 г.).
Вяземский ответил быстро и тоже шутливо, как полагалось говорить о таких обычных происшествиях. Он смотрел на дело проще, чем Пушкин, в письме которого слышится смущение, виноватость. Вяземский писал:
"Сейчас получил я твое письмо, но живой чреватой грамоты твоей не видел, а доставлено оно мне твоим человеком. Твоя грамота едет завтра с отцом своим и семейством в Болдино, куда назначен он отцом твоим в управляющие. Какой же способ оставить дочь здесь и для какой пользы? Без ведома отца ее этого сделать нельзя, а с ведома его лучше же ей быть при семействе своем. Мой совет написать тебе полу-любовное, полу-раскаятельное, полу-помещичье письмо блудному твоему тестю, во всем ему признаться, поручить ему судьбу дочери и грядущего творения, но поручить на его ответственность, напомнив, что некогда, Волей Божией, ты будешь его барином и тогда сочтешься с ним в хорошем или худом исполнении твоего поручения. Другого средства не вижу, как уладить это по совести, благоразумно и к всеобщей выгоде. Я рад был бы быть восприемником и незаконного твоего "Бахчисарайского Фонтана", на страх завести новую классикоромантическую распрю хотя с Сергей Львовичем, или с певцом Буянова (с Василием Львовичем, дядей поэта. – А. Т.-В.), но оно не исполнительно и неудовлетворительно. Другого делать кажется нечего, как то, что я тебе сказал, а во всяком случае мне остановить девушки (ou peu s'en faut) нет возможности".
Дальше совет держаться как можно осторожнее в политическом отношении.
"Я рад, что ты здоров и не был растревожен. Сиди смирно, пиши стихи, отдавай в печать. Жена тебе очень нежно кланяется" (10 мая 1826 г.).
Больше никаких следов ни в письмах, ни в воспоминаниях современников не оставила эта девушка. Как тень прошла через жизнь поэта. А может быть, как быстро погасший солнечный луч, согревший его в темную полосу Михайловской жизни. В конце мая Пушкин еще раз в письме к Вяземскому ее помянул:
"Видал ли ты мою Эду? (Героиня поэмы Баратынского. – А. Т.-В.) Вручила ли она тебе мое письмо? Не правда ли, она очень мила?"
Друзья были правы, когда писали, что выгоднее дать пройти "несчастному времени". Правительство не доверяло Пушкину и усердно следило за ним, за его перепиской, за его знакомыми. Даже умеренный, от политики далекий Плетнев вызвал подозрение Государя. Генерал Дибич писал генерал-адъютанту Голенищеву-Кутузову, начальнику кадетских корпусов, где Плетнев был преподавателем, что "Государю Императору угодно было повелеть узнать достоверно, по каким точно связям знаком Плетнев с Пушкиным и берет на себя ходатайство по сочинениям его и иметь за ним ближайший надзор".
Властям хотелось выяснить, не был ли через Пушкина Плетнев связан с декабристами. К счастью для Плетнева, его начальник дал о нем очень благоприятный отзыв: "Плетнев знает Пушкина как литератор, смотрит за печатанием его сочинений и вырученные за продажу оных деньги пересылает к нему по просьбе и по поручению г. Жуковского. Поведения прекрасного. Жизни тихой и уединенной, характера скромного и даже более робкого".
За самим Пушкиным был усилен тайный надзор. Шпионские донесения того времени читаются теперь как курьезы. Они показывают низкий уровень той полиции, которая всю жизнь преследовала Пушкина своим вниманием… Но как раз тогда, когда от этих малограмотных рапортичек в значительной степени зависела судьба великого поэта, во Псков был послан агент более крупного калибра, чиновник Коллегии иностранных дел, Бошняк. Он был командирован "для возможно тайного обстоятельного исследования поведения известного стихотворца Пушкина, подозреваемого в поступках, клонящихся к возбуждению вольности крестьян и для арестования его и отправления куда следует, буде бы он действительно оказался виновным".
Бошняк должен был также выяснить, занимается ли Пушкин "сочинением и пеньем возмутительных песен".
Бошняк был большой поклонник Пушкина, человек образованный, знавший лично многих писателей и часть заговорщиков. До бунта была ему поручена слежка за Южным обществом. Приехав во Псков, он разыграл роль собирателя ботанических коллекций, под этим предлогом разъезжал вокруг Михайловского, разговаривал с помещиками, с трактирщиками, с крестьянами и монахами. Ничего опасного для Пушкина они не сказали. Только ближайший сосед Пушкина, генерал П. С. Пущин, отозвался о поэте достаточно нелепо: "Пушкин дружески обходится с крестьянами, брал за руку знакомых, здороваясь с ними". Генерал сосед даже в верховой езде Пушкина видел опасный уклон и говорил, что после катанья Пушкин "приказал человеку своему отпустить лошадь одну, говоря, что всякое животное имеет право на свободу".
Благожелательнее всего отозвались о чудаке-соседе монахи Святогорского монастыря. Они сказали, что он "ведет себя просто и никого не обижает". Игумен Иона на вопрос, возмущает ли Пушкин крестьян, заявил, что "Пушкин никаких песен не поет и никаких песен им в народ не выпущено, он ни во что не вмешивается и живет, как красная девка".
К июлю Бошняк составил свой рапорт, где говорил, что "Пушкин не действует к возмущению крестьян… что он действительно не может быть почтен, по крайней мере ныне, распространителем вредных в народе слухов, а еще меньше возмутителем, – я, согласно с данным мне повелением, и не приступил к арестованию его!..".
Пушкин не подозревал, что петербургские власти нашли нужным послать в Псковскую губернию одного из своих лучших сыщиков, чтобы проверить, как он себя ведет. Он был настроен примирительно, ждал ответа на свое прошение, которое еще в мае, по совету друзей, послал Царю:
"В 1824 году, имев нещастие заслужить гнев покойного Императора легкомысленным суждением касательно афеизма, изложенным в одном письме, я был выключен из службы и сослан в деревню, где и нахожусь под надзором Губернского начальства.
Ныне с надежной на великодушие Вашего Императорского Величества, с истинным раскаянием и с твердым намерением не противуречить моими мнениями общепринятому порядку (в чем и готов обязаться подпискою и честным словом), решился я прибегнуть к Вашему Императорскому Величеству со всеподданнейшею моею просьбою.
Здоровье мое, расстроенное в первой молодости, и род аневризма давно уже требуют постоянного лечения, в чем и представляю свидетельство медиков; осмеливаюсь всеподданнейше просить позволения ехать для сего или в Москву, или в Петербург, или в чужие края.
Всемилостивейший Государь,
Вашего Императорского Величества верноподданный
Александр Пушкин".
О своих политических взглядах он ничего не сказал, раскаяние выразил только в атеизме, от которого действительно отходил. К прошению была приложена еще бумага "Обязательство Пушкина": "Я, нижеподписавшийся, обязуюсь впредь ни каким тайным обществам, под каким бы они именем не существовали, не принадлежать; свидетельствую при сем, что я ни к какому тайному обществу таковому не принадлежал и не принадлежу и никогда не знал о них" (11 мая 1826 г.).
Текст письма и обещания приведен здесь целиком. Это важный оправдательный документ. Пушкина, при его жизни и после смерти, упорно и бездоказательно обвиняли в заискивании перед Николаем I. Спокойный, достойный тон его прошения ясно опровергает это обвинение. Но Пушкин покривил душой, заявляя, что он ни к каким тайным обществам не принадлежал. Членом "Союза Благоденствия" он не был, но он был масон. Правда, масонам полагалось публично отрекаться от этого звания.
Сообщая Вяземскому о своем прошении, Пушкин писал:
"Твой совет кажется мне хорош. – Я уже писал Царю, тотчас по окончании следствия, заключая прошение точно твоими словами. Жду ответа, но плохо надеюсь. Бунт и революция мне никогда не нравились, это правда, но я был в связи почти со всеми и в переписке со многими из заговорщиков. Все возмутительные рукописи ходили под моим именем, как все похабные ходят под именем Баркова. Если б я был потребован комиссией, то я бы, конечно, оправдался, но меня оставили в покое и, кажется, это не к добру. Впрочем, чорт знает. Прощай, пиши" (10 июля 1826 г.).
Друзья нашли прошение Пушкина слишком сдержанным. "Я видел твое письмо в Петербурге, – писал Вяземский, – оно показалось мне сухо, холодно и не довольно убедительно. На твоем месте написал бы я другое и отправил в Москву" (31 июля 1826 г.).
"Ты находишь мое письмо холодным и сухим, – отвечал Пушкин. – Иначе и быть невозможно. Благо написано. Теперь у меня перо не повернулось бы" (14 августа 1826 г.).
Теперь, то есть после сурового приговора над декабристами. Пятеро было повешено. 120 было отправлено на каторгу.
Пока шло следствие, Пушкин, как и многие, надеялся на милость царскую. Смертная казнь была отменена в России еще в 1741 году Елизаветой Петровной. Никто не ждал виселиц. Все были потрясены. Вяземский из Ревеля писал жене:
"О чем ни думаю, как ни развлекаюсь, а все прибивает меня неожиданно и невольно к пяти ужасным виселицам, которые для меня из всей России сделали страшное лобное место" (20 июля 1826 г.).
И в записной книжке он записал: "13 июля (день казни) для меня ужаснее 14 декабря. По совести нахожу, что казни и наказания несоразмерны преступлениям, из коих большая часть состояла в одном умысле".
Пушкин лично знал всех повешенных – Рылеева, Каховского, Бестужева-Рюмина, Муравьева-Апостола, Пестеля. Его неотступно преследовали мысли о них. На 38-й странице черновой тетради № 2368 есть рисунок, вызывающий немало споров. Страница исчерчена мужскими лицами в профиль. А наверху и внизу страницы нарисовано пять виселиц, пять повешенных. На нижнем рисунке часть крепостной стены. Над верхним рисунком надпись:
И я бы мог как шут…
Почерк настолько неразборчив, что одни, как С. А. Венгеров, читали "шут", другие, как В. Е. Якушкин, – "тут". Ему казалось невероятным, чтобы Пушкин мог назвать декабристов шутами. Между тем он, несомненно, употребил это слово. Венгеров в доказательство правильности своего чтения ссылается на то, что Пушкин всегда писал длинное Т, никогда не писал его с тремя палочками. Это неверное замечание. В той же тетради среди автографов Пушкина можно найти оба Т. Но что в данном случае это Ш, видно из того, что палочки связаны росчерком внизу, а не наверху[25]. Следует признать и понять, что Пушкин действительно написал:
И я бы мог как шут…
Это только подчеркивает его новый, шекспировский, подход к декабрьской трагедии. Он переживал ее в полном одиночестве. Только тригорские соседки делили его тревогу и волнение. Среди приговоренных у них были родные и знакомые. Казненный Муравьев-Апостол приходился Осиповой внучатым племянником. Тревожилась она и за Пушкина. Сам он, по своему обыкновению, находил спасение в работе. В середине августа дописал он шестую главу "Онегина", где дуэль и смерть Ленского. Глава кончается лирическим прощанием с молодостью. В этих строчках столько душевной ясности, такая светлая мягкость, что трудно поверить, что это написано в черный год гибели политических мечтаний, занимавших такое романтическое место в жизни пушкинского поколения, в год гибели друзей, доказавших свою беспредельную преданность этим либеральным упованиям.
Так, полдень мой настал, и нужно
Мне в том сознаться, вижу я.
Но так и быть: простимся дружно,
О юность легкая моя!
Благодарю за наслажденья,
За грусть, за милые мученья,
За шум, за бури, за пиры,
За все, за все твои дары;
Благодарю тебя. Тобою,
Среди тревог и в тишине,
Я насладился… и вполне;
Довольно! С ясною душою
Пускаюсь ныне в новый путь
От жизни прошлой отдохнуть.
(Глава VI. Стр. XLV)
Прошение Пушкина на высочайшее имя долго гуляло по канцеляриям. Пушкин еще в мае сам подал его губернатору Адеркасу. Тот продержал его до середины июля, прежде чем переслать в Ригу генерал-губернатору маркизу Паулуччи, который отправил его министру иностранных дел, графу К. Нессельроде, прибавив от себя, что "упомянутый Пушкин ведет себя хорошо". Но шли месяцы, а ответа не было.
Наконец в сентябре внезапно пришла давно желанная перемена. День 3 сентября Пушкин провел в Тригорском и был очень весел. Соседки проводили его до дому. А на рассвете прибежала к ним Арина Родионовна.
"Это была старушка чрезвычайно почтенная, – рассказывали много лет спустя тригорские помещицы М. И. Семевскому, – лицом она была полная, вся седая, страстно любившая своего питомца, но с одним грешком – любила выпить. Она прибежала вся запыхавшись, седые волосы ее беспорядочными космами спадали на лицо и плечи, бедная няня плакала навзрыд. Оказалось, что вечером прискакал фельдъегерь и объявил Пушкину ехать с ним в Москву. Пушкин успел только взять деньги, накинуть шинель, и через полчаса его не было…
– Что же офицер, взял какие-нибудь бумаги?
– Нет, ничего не брал. Ничего не ворошил. Уж я потом сама кое-что выбросила.
– Что?
– Да сыр проклятый, что Александр Сергеевич кушать любил. Такой от него дух скверный, немецкий…"
Тревога нянюшки и соседок оказалась напрасной. Это был не арест, а вызов в Москву. Фельдъегерь привез Адеркасу в Псков приказ от Дибича: "Находящемуся во вверенной вам губернии чиновнику 10-го класса Александру Пушкину позволить отправиться сюда при посылаемом с ним нарочным курьером. Господин Пушкин может ехать в своем экипаже, свободно, не в виде арестанта, но в сопровождении только фельдъегеря. По прибытии в Москву имеет явиться прямо к дежурному генералу главного штаба Его Императорского Величества" (31 августа 1826 г.).
5 сентября утром Пушкин выехал из Пскова в Москву. Кончилась ссыльная жизнь поэта. Но то, что его ожидало, назвать свободной жизнью трудно.
А в 1824 году “простая русская семья” (если вспомнить онегинский стих), семья Осиповых-Вульф, вольно или невольно стала семейным окружением поэта.
Впрочем, сближение произошло не вдруг. Поначалу поэта, приехавшего в Михайловское и оставшегося там в обиженном, оскорбленном и ожесточенном состоянии, видимо, почти все вокруг …раздражало:
“... По части общества я часто видаюсь с одною доброю старою соседкой, слушаю ее патриархальные разговоры; дочери ее довольно дурные во всех отношениях, играют мне Россини…” (октябрьское письмо В.Ф. Вяземской - черновое).
П.И. Бартенев: “поэт нашел себе нравственное убежище у П.А. Осиповой, которая вместе с Жуковским сумела понять чутким, всеизвиняющим сердцем, что за вспышками юношеской необузданности, за резкими отзывами сохранялась во всей чистоте не одна гениальность, но и глубокое, доброе, благородное сердце и та искренность, которая и доселе дает его творениям чарующую силу и власть над людьми”.
“…именно она / П. А. Осипова – Вульф/ именно в это сложнейшее время и в этом драматическом положении помогала ему выходить к самому себе, открывать самого себя и сохранять самого себя… Врастание в тригорский быт было постепенным, но оказывалось все более плотным, становясь, наконец, и задушевным.
“…лишь только буду свободен. Тотчас же поспешу вернуться в Тригорское, к которому отныне навсегда привязано мое сердце”, - это пишет А.С. Пушкин П.А. Осиповой, едва покинув Михайловское (когда закончилась ссылка).
Письма Пушкина - величайшая радость и гордость для нее. Прасковья Александровна благоговейно хранит каждый листок его переписки и нисколько не преувеличивает, сообщая ему уже в 1833 г., что перечитывает его письма “с наслаждением скупца, пересчитывающего груды золота, которые он копит” ...
С глубокой и искренней нежностью она сама пишет ему: “Целую ваши прекрасные глаза, которые я так люблю”, называет его “мой дорогой и всегда любимый Пушкин”, “сын моего сердца”. При этом она проявляет исключительную заботливость о нем - устраивает его земельные и хозяйственные дела, тщательно исполняет его поручения, заботится о его доходах, дает ему практические советы и указания.
Прасковьи Александровны не стало через 22 года после смерти Пушкина - в 1859 году. Перед смертью она уничтожила всю переписку с собственной семьей – письма обоих мужей и всех детей. Единственное, что она оставила в неприкосновенности, - письма Пушкина.
Екатерина Ивановна Осипова вспоминает:
Когда произошла эта несчастная дуэль, я, с матушкой и сестрой Машей, была в Тригорском, а старшая сестра, Анна, в Петербурге. О дуэли мы уже слышали, но ничего путем не знали, даже, кажется, и о смерти. В ту зиму морозы стояли страшные. Такой же мороз был и 5 февраля 1837 года. Матушка недомогала, и после обеда, так часу в третьем, прилегла отдохнуть. Вдруг видим в окно: едет к нам возок с какими-то двумя людьми, за ним длинные сани с ящиком. Мы разбудили мать, вышли навстречу гостям: видим, наш старый знакомый, Александр Иванович Тургенев. По-французски рассказал Тургенев матушке, что приехали они с телом Пушкина, но, не зная хорошенько дороги в монастырь и перезябши вместе с везшим гроб ямщиком, приехали сюда. Какой ведь случай! Точно Александр Сергеевич не мог лечь в могилу без того, чтобы не проститься с Тригорским и с нами. Матушка оставила гостей ночевать, а тело распорядилась везти теперь же в Святые Горы вместе с мужиками из Тригорского и Михайловского, которых отрядили копать могилу. Но ее копать не пришлось: земля вся промерзла, - ломом пробивали лед, чтобы дать место ящику с гробом, который потом и закидали снегом. Наутро, чем свет, поехали наши гости хоронить Пушкина, а с ними и мы обе - сестра Маша и я, чтобы, как говорила матушка, присутствовал при погребении хоть кто-нибудь из близких. Рано утром внесли ящик в церковь, и после заупокойной обедни всем монастырским клиром, с настоятелем, архимандритом, столетним стариком Геннадием во главе, похоронили Александра Сергеевича, в присутствии Тургенева и нас, двух барышень. Уже весной, когда стало таять, распорядился отец Геннадий вынуть ящик и закопать его в землю уже окончательно. Склеп и все прочее устраивала сама моя мать, Прасковья Александровна. так любившая Пушкина. Никто из родных так на могиле и не был. Жена приехала только через два года, в 1839 году."
Цветы последние милей
Роскошных первенцев полей.
Они унылые мечтанья
Живее пробуждают в нас.
Так иногда разлуки час
Живее сладкого свиданья
Осиповы-Вульф считаются прототипами героев «Евгения Онегина». Сын Прасковьи Александровны Алексей Вульф писал о романе:
"Он не только почти весь написан в моих глазах, но я даже был действующим лицом в описании деревенской жизни Онегина, ибо она вся взята из пребывания Пушкина у нас… Так я, дерптский студент, явился в виде геттингенского под названием Ленского; любезные мои сестрицы суть образцы его деревенских барышень, и чуть не Татьяна ли одна из них... "
Некоторые черты характера Прасковьи Александровны угадываются в образе Прасковьи Лариной, которая «открыла тайну, как супругом самодержавно управлять» (предположительно это ее профиль на одном из черновиков «Письма Татьяны к Онегину», относящемся к сентябрю 1824 г.). Унаследовав от отца властность и хозяйственность, Осипова сорок шесть лет являлась полновластной хозяйкой Тригорского, за которым числилось 700 крепостных. Пушкин доверял ее практичности, обращаясь за советами по вопросам управления имением и даже хотел видеть ее владелицей Михайловского в драматической ситуации его возможной продажи (1836).
Сохранилось 24 письма Пушкина к Осиповой П.А. (1825-1836) и 16 писем Прасковьи Александровны к поэту (1827 — 9 января1837).
«Владычицей гор» называл ее А.А.Делъвиг (из письма к Осиповой от 7 июня 1826 г.). Осипова стала адресатом Дельвига после того, как он посетил Тригорское в апреле 1825 г. Позже А.А.Дельвиг просил у Прасковьи Александровны разрешения посвятить ей свои «Русские песни». Дарили ей свои произведения Е.А.Баратынский, И.И.Козлов, А.И.Тургенев, П.А.Вяземский. Пушкин же находил в Осиповой черты личности, которые вообще считал основными: «особенность характера, самобытность, без чего... не существует и человеческого величия» («Барышня-крестьянка»).
В творчестве и переписке Пушкина имя Осиповой П.А. и относящиеся к ней по смыслу слова встречаются 168 раз. Ее семейству поэт посвятил первые стихи, написанные им на псковской земле: «Простите, верные дубравы» (1817). Ей посвящен цикл стихотворений «Подражания Корану» (1824), стихотворения «Быть может, уж недолго мне...» (1825), «Цветы последние милей» (1825).
В русской культуре Осипова П.А. навсегда осталась создательницей того Тригорского, в котором уже некоторые современники (Н.М.Языков. «Тригорское», 1826) видели:
Приют свободного поэта,
Непобежденного судьбой.
По сути, Прасковья Александровна является создательницей первого пушкинского музея в России. Она хранила в своем доме книги, портреты, письма, вещи, связанные с памятью о поэте. Некоторые из них составляют основу и современного дома-музея в Тригорском.
Алексе?й Никола?евич Вульф (17 [29] декабря 1805, Тригорское Опочецкого уезда Псковской губернии — 17 [29] апреля 1881, там же) — мемуарист, автор «Дневника», близкий друг А. С. Пушкина и Н. М. Языкова.
Сын Прасковьи Александровны Осиповой, соседки по имению и близкой знакомой Пушкина, родной брат Евпраксии (Зизи) Вульф, баронессы Вревской и Анны Николаевны Вульф, двоюродный брат А. П. Керн. С 1819 Вульф жил в Дерпте, учился в 1822—1826 военному делу на физико-математическом факультете Дерптского университета. В университете подружился с Языковым, посвятившим ему девять стихотворений. Во время приездов на каникулы в родное Тригорское Вульф регулярно встречался с сосланным в соседнее Михайловское Пушкиным. В 1825 Пушкин задумал бежать за границу, выдав себя за слугу Вульфа. Вместе с приятелем Пушкин обсуждал создающиеся сцены «Бориса Годунова» и главы «Евгения Онегина», отмечалась перекличка между дневником Вульфа и публицистикой Пушкина (записка «О народном воспитании»). В 1826 Вульф привёз познакомиться с Пушкиным и своего университетского товарища Языкова, что запечатлено в нескольких стихотворениях обоих. В наброске «О холере» Пушкин даёт следующую характеристику Вульфу:
В конце 1826 года я часто видался с одним дерптским студентом (ныне он гусарский офицер и променял свои немецкие книги, свое пиво, свои молодые поединки на гнедую лошадь и на польские грязи). Он много знал, чему научаются в университетах, между тем как мы с вами выучились танцевать. Разговор его был прост и важен. Он имел обо всем затверженное понятие в ожидании собственной поверки. Его занимали такие предметы, о которых я и не помышлял.
Окончив университет, Вульф несколько месяцев прослужил в налоговом департаменте в Петербурге, а затем, как и пишет Пушкин, поступил в гусарский принца Оранского полк; боевой офицер русско-турецкой войны 1828—1829 и кампании против польского восстания 1831. Выйдя в отставку, штаб-ротмистр Вульф в 1833 году поселился в родном Тригорском и до конца жизни занимался там хозяйствованием; семьёй он так и не обзавёлся. Крестьяне вспоминали его как «строгого барина». Похоронен на городище Воронич у алтарной части церкви Георгия Победоносца (в настоящее время церковь восстанавливается).
Основное произведение Вульфа — «Дневники 1827—1842 гг.», изданные в 1929 г., они включают в себя мемуарные, критические публицистические фрагменты. Помимо литературных и интеллектуальных характеристик, существенную роль в дневнике занимает переданное отстранённым тоном опытного донжуана описание любовных похождений автора, Пушкина, Языкова и многочисленных родственниц Вульфа — похождений, в значительной части шутливых, игровых, то вполне невинных, то далеко не целомудренных. Публикация уникального по тематике дневника Вульфа открыла для исследователей «любовный быт пушкинской эпохи» (название вступительной статьи П. Е. Щёголева). Некоторые мемуарные записи Вульфа введены в научный оборот ещё раньше М. И. Семевским, лично с ним общавшимся в 1866 году.
Евпраксия Николаевна Вревская (урождённая Вульф) родилась 12 октября (25 октября) 1809 года в имении своей матери в Тригорском Опочецкого уезда Псковской губернии в семье тверского дворянина, отставного коллежского асессора Николая Ивановича Вульфа (1771—1813) и Прасковьи Александровны (урождённая Вындомская)[1] (1781—1859)[2],[3].
7 июля 1831 года она вышла замуж за барона Бориса Александровича Вревского — отставного офицера лейб-гвардии Измайловского полка и переехала на жительство в имение мужа Голубово. 31 мая 1834 года у неё родился[4] сын Александр — в будущем ставший генерал-губернатором Туркестанского края и командующим войсками Туркестанского военного округа.
Дружба с Пушкиным
Евпраксия Николаевна с раннего возраста была близко знакома с А. С. Пушкиным, который являлся соседом по их имению (проживал в имении Михайловское) и был близким другом семьи её родителей. Одно время А. С. Пушкин был влюблён в девятнадцатилетнюю Евпраксию Николаевну.
Она под своим домашним именем «Зизи» была упомянута поэтом в пятой главе романа «Евгений Онегин»:
За ним строй рюмок узких, длинных,
Подобно талии твоей,
Зизи, кристалл души моей,
Предмет стихов моих невинных,
Любви приманчивый фиал,
Ты, от кого я пьян бывал!
В «литературоведческих кругах» есть мнение, что Евпраксия Николаевна являлась прообразом героини романа «Евгений Онегин» — Татьяны Лариной.
Известно, что именно ей А. С. Пушкин рассказал о своей предстоящей дуэли с Жоржем Дантесом. А. И. Тургенев говорил, что вдова Пушкина упрекала Вревскую «в том, что, зная об этом, она её не предупредила».
Евпраксия Николаевна умерла «от чахотки» 22 марта 1883 года в селе Голубово Островского уезда Псковской губернии и похоронена на погосте Врев. Перед смертью, несмотря на мольбы дочери, Евпраксия Николаевна сожгла все письма Пушкина, адресованные ей.
Анна Николаевна Вульф родилась 10 декабря (22 декабря) 1799 года в имении своей матери в Тригорском Опочецкого уезда Псковской губернии в семье тверского дворянина, отставного коллежского асессора Николая Ивановича Вульфа (1771—1813) и Прасковьи Александровны (урождённая Вындомская)[1] (1781—1859)[2][3].
Дружба с Пушкиным
Анна Николаевна познакомилась с А. С. Пушкиным летом 1817 года, когда поэт, только что окончивший Царскосельский лицей, приехал в гости к своим родителям в Михайловское.
Во время написания А. С. Пушкиным стихотворения «Я был свидетелем златой твоей весны» Анне Николаевне Вульф было двадцать шесть лет.
«Я был свидетелем златой твоей весны;
Тогда напрасен ум, искусства не нужны,
И самой красоте семнадцать лет замена.
Но время протекло, настала перемена
...
Анна Николаевна никогда не была замужем, её жизнь протекала в родовых имениях Тригорское и Малинники, иногда она приезжала к своей сестре Евпраксии Николаевне в её имение Голубово.
Анна Николаевна умерла 14 сентября 1857 года.
. Вересаев был прав, когда писал, что у Пушкина с Анной Николаевной Вульф был "самый вялый и прозаический из его романов", но прав лишь в отношении поэта, потому что для Анны Николаевны эта любовь оказалась главным содержанием жизни и по существу определила всю ее судьбу. Сестер Вульф любили сравнивать с пушкинскими Татьяной и Ольгой. Анна Николаевна скорее была тип Татьяны, но пребывающей в противоположном роману жизненном сюжете. Представим, что мечтательница Татьяна, воображая себе мир по прочитанным романам, получает от Онегина не отповедь, а мимолетное внимание. Представим, что Онегин с интервалом в два-три года будет наезжать из столицы и от нечего делать давать ей "уроки" в тишине. А она будет ждать, мечтать, томиться, незаметно стареть, не решаясь оттолкнуть своего "коварного искусителя". Такую жизнь вела Анна Николаевна.
Они встретились в Тригорском впервые в 1817 году, когда Пушкин впервые приехал с родителями в Михайловское после окончания лицея. Он наверняка обратил внимание на свою ровесницу, потому что остальные дочери Прасковьи Александровны были еще в нежном детском возрасте. Та встреча была мимолетна, но поэт вспомнил о ней в 1824 году, когда вновь вернулся в Михайловское. Поэтому год спустя появились строки:
Я был свидетелем златой твоей весны;
Тогда напрасен ум, искусства не нужны,
И самой красоте семнадцать лет замена.
За этими чудными строками, открывающими первое стихотворение посвященное Анне Вульф, скорее разочарование. Безжалостный ход времени обозначен в пушкинском стихотворении откровенно и горько. "Ты приближаешься к сомнительной поре" - вряд ли это слова влюбленного. Особенной красотой Анна Николаевна никогда не отличалась, разве что стройными ножками. Если ее семнадцать лет были заменой красоте, то в двадцать шесть она безнадежно утратила свежесть и очарование юности, не заменив это другими достоинствами. Стоило ли об этом говорить, да еще стихами? А в стихотворении "Увы! Напрасно деве гордой..." мы решили вообще опустить последние строчки, заключавшие текст непечатный. Потребность дерзить возникала у Пушкина, может быть, потому, что Анна Николаевна была девушкой экзальтированной и склонной к высокопарному изъяснению чувств, шокирующая откровенность выражений - своего рода стилистический "противовес".
Невольно создается впечатление, что на Анне Вульф поэт скорее отрабатывал технику обольщения, азы которой в это время он преподавал ее брату, Алексею Вульфу, приехавшему из Дерптского университета на летние каникулы. Пушкин описал это искусство в своем "Онегине":
Как он умел казаться новым,
Шутя невинность изумлять,
Пугать отчаяньем готовым,
Приятной лестью забавлять,
Ловить минуту умиленья,
Невинных лет предубежденья
Умом и страстью побеждать,
Невольной ласки ожидать,
Молить и требовать признанья,
Подслушать сердца первый звук,
Преследовать любовь - и вдруг
Добиться тайного свиданья,
И после ей наедине
Давать уроки в тишине!
Все расписано как по нотам. Послушный ученик Алексей Вульф, успешно догонявший учителя, считал, что роли между ними распределены: Пушкин - Мефистофель, он сам - Фауст. Фигурируют в их переписке и маски литературных героев, прежде всего коварных и циничных обольстителей: Ловеласа, погубителя добродетельной Клариссы, и Вальмона, героя "Опасных связей" Шодерло де Лакло. Вульф определил для себя преподанные Пушкиным приемы обольщения гораздо более прозаически и конкретно: сначала надо распалить воображение жертвы сладострастными картинами, подробно, в "технических терминах", рассказывая ей о своих прежних любовных похождениях, а затем "до известной точки пользоваться с нею везде и всяким образом наслаждениями вовсе не платоническими". Такого рода полуневинные эротические игры должны были накрепко привязать жертву к обольстителю.
Похоже, что с Анной Николаевной Вульф Пушкин применил именно такую тактику. Положено еще было всегда казаться неожиданным: то нежным, то дерзким, то скучающим, то холодным.
Пушкин появился в Михайловском в августе 1824 года. Сначала, по его собственному признанию, он бывал в Тригорском редко и даже объявил сестре в письме, что все ее тригорские подруги - "несносные дуры". Но в сентябре он уже завоевал особое доверие Анны Николаевны и потому просит Вульфа писать ему письма на ее имя, в двойном конверте. К ноябрю события, очевидно, начали развиваться по сценарию. "Annette очень смешна; сестра расскажет тебе мои новые фарсы", - писал Пушкин брату Льву (XIII, 118), а буквально через несколько дней сообщает, что с Анеткой бранится: надоела. Весной Пушкин попробовал вовлечь в галантную переписку с Анной Николаевной своего брата Льва. Но когда письмо пришло, он тут же его сжег в присутствии ее якобы из ревности. Все участники прекрасно знали, что речь идет только о шутке. Анна Николаевна покорялась общему тону, но вряд ли ей это было приятно. Вообще любовный туман, нависший над Тригорским, несколько смещал привычные ориентиры. Так появляется шутливый экспромт Пушкина на смерть тетушки Анны Львовны, глубоко оскорбивший его родных, а Анна Николаевна вслед за ним заказывает заупокойную службу о рабе божием Георгии Байроне.
Переписка между Анной Николаевной Вульф и Пушкиным начинается после ее отъезда вместе с Керн в Ригу. В это время Пушкин пишет им обеим, нисколько этого не скрывая. Письмо Анне Николаевне от 21 июля 1825 года выдержано в обычном шутливом, а по существу дерзком тоне. Поэт не опасается, что на него обидятся и позволяет себе весьма рискованные выражения. Он и на расстоянии берется руководить ее поведением:
"Что же до нравоучений и советов, то вы их получите. Слушайте хорошенько: 1) Ради бога, будьте легкомысленны только с вашими друзьями (мужского пола), они воспользуются этим лишь для себя, между тем как подруги станут вредить вам, ибо, - крепко запомните это, - все они столь же ветрены и болтливы, как вы сами. 2) Носите короткие платья, потому что у вас хорошенькие ножки, и не взбивайте волосы на височках, хотя бы это и было модно, так как у вас, к несчастью, круглое лицо. 3) С некоторых пор вы стали очень осведомленной, однако не выказывайте этого, и если какой-нибудь улан скажет вам (.....), не смейтесь, не жеманьтесь, не обнаруживайте, что польщены этим; высморкайтесь, отвернитесь и заговорите о чем-нибудь другом" (Там же. С. 538). При этом Пушкин, по законам игры, заканчивает свое письмо излияниями чувств в адрес Керн. По тону этот фрагмент резко отличается от предыдущего. Развязно-дерзкий тон сменяется вдумчиво-доверительным, появляется выраженная сентиментальная аффектация. И все это для того, чтобы сделать больно Анетке? Буквально через три дня он написал письмо Анне Керн, а в конце его заметил: "Знаете ли вы, что, перечтя эти строки, я стыжусь их сентиментального тона - что скажет Анна Николаевна?" (XIII, 539). В сущности все любовные письма предназначались для совместного прочтения заинтересованных лиц. В декабре 1825 года Пушкин пишет Керн, а приписку к его письму делает Анна Вульф. Подобный шутливый тон ей удерживать не удавалось. Она была слишком экзальтированной, сентиментальной барышней и склонна была скорее драматизировать собственные чувства.
Весной 1826 года обеспокоенная Прасковья Александровна Осипова отослала дочь в Малинники, подальше от греха, и оттуда полетели в Тригорское страстные, почти безумные письма несчастной девушки, абсолютно не способной скрывать собственные чувства. Пик этой сентиментальной переписки пришелся на 1825 год. Как угадал Пушкин в письме Татьяны стиль влюбленной провинциальной барышни! Анета тоже писала ему по-французски: "Однако с чего начать и что сказать вам? Мне страшно, и я не решаюсь дать волю своему перу... Видите, всему виной вы сами; - не знаю, проклинать ли мне или благословлять провидение за то, что оно послало вас (на моем пути)"... и т.д. и т.д. (XIII, 552). Но Анета, в отличие от пушкинской героини, была слаба и простодушна. Она наивно рассказывала поэту, как за ней ухаживал то прелестный кузен, гвардейский офицер ("Но, увы! Я ничего не чувствую при его приближении - его присутствие не вызывает во мне никакого волнения" -Там же), то некий весьма предприимчивый Анреп ("... я не испытываю к нему никакого чувства, он никак не действует на меня, между тем одно воспоминание о вас вызывает во мне такое волнение!" - XIII, 555). Если Пушкин предназначил себе в этом романе роль Вальмона, то бедная Анна Николаевна могла претендовать лишь на роль Сесиль, соблазненной им простушки.
Любовь Анны Николаевны к поэту была столь безраздельна и безнадежна, что она уже не способна была испытывать ревность. "Анета Керн тоже должна приехать сюда (т. е. в Малинники. - Н. З.), - пишет она ему, - однако между нами не будет соперничества; по-видимому, каждая довольна своей долей. Это делает вам честь и доказывает наше тщеславие и легковерие. Евпраксия пишет мне, что вы ей сказали, будто развлекались в Пскове - и это после меня? - что вы тогда за человек и какая я дура!" Пушкин был в Пскове зимой 1825 года недолго и с ним вместе туда ездила Анна Николаевна. Отсюда неподдельный ужас, звучащий в ее вопросе.
Страдания Анны Николаевны тайной от женского населения Тригорского не были, потому что сам Пушкин не считал нужным соблюдать должную скромность: "Если вы не боитесь компрометировать меня перед моей сестрой (что вы делаете судя по ее письму), то заклинаю вас не делать этого перед маменькой... Какое колдовское очарование увлекло меня? Как вы умеете притворяться в чувствах!" (XIII, 553-554). Дело в том, что поэт имел обыкновение бросать страстные письма Анеты на самом видном месте и наверняка намеренно. Пушкин ответил Анне Николаевне, по-видимому, нежным письмом (оно не сохранилось). "Быть может, чувствий пыл старинный им на минуту овладел"... Но в ее присутствии он писал подобные, и даже еще более нежные, письма Анне Керн и Нетти Вульф, поэтому Анна Николаевна не обольщалась.
Дружба Анны Николаевны с Анной Петровной Керн все эти испытания выдержала. Они с детства были неразлучны и научились понимать друг друга. В сентябре 1826 года Анна Николаевна гостила у Керн в Петербурге и здесь дошла до нее новость о внезапном отъезде Пушкина из Михайловского. Она, всерьез перепуганная, написала ему бессвязное отчаянное письмо, решив передать его через Вяземского, в котором вновь выплеснулись ее чувства.
Теперь Анете оставалось лишь ждать кратких встреч, когда пути-дороги заведут, наконец, поэта в Тригорское. Это случилось через год, в сентябре 1827 года, и тогда вновь сочинилось шутливое письмо от троих - Пушкина, Алексея Вульфа и Анны Николаевны - незабвенной Анне Керн. Но переписка между Анной Николаевной и ее неверным возлюбленным с момента его окончательного отъезда прервалась. Она, разумеется, не могла не понять, что ей не было места в том большом мире, куда он отправился.
Осенью 1828 года Пушкин собрался в Малинники. Даже Алексею Вульфу , человеку с минимальными предрассудками, эта идея не пришлась по душе. "Я видел Пушкина, - записал он в "Дневнике", - который хочет ехать с матерью в Малинники, что мне весьма неприятно, ибо от того пострадает доброе имя и сестры и матери, а сестре и других ради причин это вредно" [2]. "Других ради причин" - это, разумеется, о замужестве. У Анны Николаевны было все меньше шансов устроить свою судьбу, но разве бы ее это остановило, если речь шла о встрече с Пушкиным? Правда, в этот раз ей, видимо, почти не досталось внимания, ибо в Малинниках обнаружилось много "хорошеньких девчонок", за которыми на ее глазах стал увиваться поэт, правда, по его признанию, "платонически". За то в этот свой приезд Пушкин подарил ей портрет Байрона с дарственной надписью на французском языке.
Когда Пушкин окончательно ушел из жизни Анны Николаевны, она как-то увяла и погасла. Положение сестры печалило Алексея Вульфа. Он писал в своем дневнике в 1830 году, что Анна Николаевна пребывает в постоянной печали, ибо тяжело жить безвыездно в Тригорском одинокой девушке в тридцать лет. Женихов на брачном горизонте не появлялось, никаких особых занятий у в деревне не было, книги были перечитаны, а к хозяйственным делам Прасковья Александровна смолоду никого не подпускала. Анна Николаевна то гостила у замужних сестер в соседних имениях, то подолгу жила в Петербурге у дальних родственников, дорожила редкими праздниками, нарушавшими ее монотонное существование. В 1833 году, находясь в Михайловском, Надежда Осиповна Пушкина с долей жалости писала о том, с какой готовностью Анна Николаевна Вульф собирается на очередную соседскую свадьбу: "Аннет хотела тебе писать, но она вся в приготовлениях к нашему путешествию, шьет себе платья и уборы, чтобы явиться красивой на всех этих празднествах...". Что до красоты, то этим Анна Николаевна уже похвастать не могла. После тридцати она стала стремительно полнеть. Ольга Павлищева, встретив ее в Петербурге в 1836 году, после нескольких лет разлуки, была поражена: "... она все также моргает и щурит глаза, но растолстела до невозможности: тело ее состоит из трех шаров: голова вместе с шеей, потом плечи и грудь, а затем зад вкупе с животом. Но при этом она все та же хохотушка, так же остроумна и добродушна".
В 1830-е годы Анна Николаевна подолгу жила в Петербурге, в частности в 1835 году она почти полгода гостила у родителей Пушкина, которые были к ней привязаны. Конечно, она была в курсе всех семейных событий, хотя с Пушкиным могла встречаться лишь мельком и вынуждена была отметить, что Пушкин ведет себя как прилично любящему мужу. Правда, поэт, словно вспомнив тригорские шалости, отшутился: "Это всего лишь притворство".
В 1833 году, когда Прасковья Александровна Осипова вместе с дочерью гостила в Петербурге у Керн, Пушкин с женой нанесли им визит. Анна Николаевна никакой обиды на поэта не таила и, вероятно, пыталась быть максимально любезной с Натальей Николаевной. Наталья Николаевна, видимо, почувствовала к ней определенное доверие и уж никак не могла подозревать в ней соперницу, поэтому решилась на поступок наивный и несколько бестактный (который, кстати, выдает ее светскую неопытность). Знакомство с тригорскими обитательницами во время этого визита скорее всего вызвало у нее множество вопросов, и поэт рассказал жене о своих прошлых забавах, естественно, не предполагая, что это может ее всерьез обеспокоить. Тревожной новостью для Натальи Николаевны оказались отношения поэта с младшей сестрой Анны Николаевны, Евпраксией. Поэтому она не нашла ничего лучшего, как написать Анне Николаевне в Тригорское письмо, где изложила и полученную информацию, и возникшие в связи с ней вопросы (письмо это не сохранилось). Анна Николаевна ответила с большим достоинством и явно холодно:
"Ваше любезное письмо я получила дорогая Наталья Николаевна, приехав сюда. Думаю, вы уже знаете, что моя сестра наконец разрешилась от бремени и действительно дочерью согласно заранее сделанному предсказанию. По вашему письму я предполагаю, что вы тоже накануне ваше разрешения, и от всего сердца желаю, чтобы все кончилось благополучно, и чтобы я могла вас вскорости поздравить...
По философской сентенции вашего супруга, которую вы мне приводите, я вижу, что со времени моего отъезда он начал посвящать вас в прошлое и что вы о нем уже весьма осведомлены, потому что вы уже после меня узнали эту истину. Боюсь, что когда мы с вами как-нибудь увидимся, мне больше нечего будет вам рассказать, чтобы развлечь вас. Как можете вы питать ревность к моей сестре, дорогая моя? Если ваш муж даже был влюблен в нее некоторое время, как вам непременно хочется верить, то разве настоящим не поглощается прошлое, которое лишь тень, вызванная воображением и часто оставляющая не больше следов, чем сновидение? Но ведь на вашей стороне обладание действительностью, и все будущее принадлежит вам.
28 июня 1833".
Можно себе представить, как тяжко было Анне Николаевне писать это письмо, и она с трудом скрывает новую горькую обиду, которую доставила ей очередная нескромность ветреного поэта. Но, неизменно его любя, она и на этот раз простила. Как-то она сказала своей сестре Евпраксии, словно оправдывая все пережитые жизненные горести и разочарования: "Но ведь у нас был Пушкин..."
А Наталью Николаевну Анна Вульф, как и все тригорские обитательницы, с тех пор немного недолюбливала.
Зимой 1836 года ей удалось, наконец, побывать в гостях у поэта. Она, по-видимому, была разочарована тем, что ей не уделили внимания и она большую часть времени провела в детской, где дети поэта "так меня полюбили и зацаловали, что я уже не знала как от них избавиться". Наташа, как замечает Анна Николаевна в письме к сестре Евпраксии, "стала более светской, чем когда-либо, и ее муж с каждым днем становится все более эгоистичным и все более тоскующим".
В 1838 году Наталья Николаевна, уже вернувшись в Петербург, прислала Анне Николаевне записку с просьбой посетить ее. Но та сослалась на нездоровье. Можно простить ей эту вполне понятную предвзятость. В свое время она написала поэту: "...вы разрываете и раните сердце, которому не знаете цены..." (XIII, 554).
После гибели Пушкина в жизни Анны Николаевны в общем ничего не изменилось, потому что то сонное, бесцельное существование, которое она вела, продолжалось по инерции. Она признавалась, что даже писать почти разучилась, и ее письма последних лет написаны на причудливой смеси дурного французского и русского языка, с самой произвольной орфографией. Усиливалась тоска, которой так и веет от ее писем, преследовало ощущение собственной ненужности, ибо, убегая из опостылевшей ей пустоты Тригорского, она всюду чувствовала себя немного посторонней и лишней. Только воспоминания были живы.
В 1847 году Анна Николаевна посетила Малинники и писала сестре Евпраксии: "Удовольствие от того, что я вижу его (брата Алексея. - Н. З.) рассеяло грусть, охватившую меня, когда я очутилась в этих местах: скольких людей я потеряла и не увижу больше. И Пушкина я так живо вспоминаю и рефрен его: хоть малиной не корми, да в Малинники возьми, и всю молодость нашу тогдашнюю жизнь...".
Заключение.
Итак, в судьбе Александра Сергеевича Пушкина Тригорское играло особенную роль. В этом имении и о нём были написаны стихотворения, тригорские друзья поэта живут в его стихотворениях и поэмах. Сейчас Тригорское входит в музейный комплекс Пушкинского заповедника. Здесь бережно хранят память о поэте и его времени. Д.С.Лихачёв отмечал, что ни один музей в мире не может сравниться с Пушкиногорьем по силе эмоционального воздействия и по необыкновенной поэтичной атмосфере, существующей там. Мне посчастливилось убедиться в этом на собственном опыте, пожить в этих удивительных местах и понять, что поэзия Александра Сергеевича Пушкина – не историческое явление, а культурное сокровище, ценное для каждого русского человека.
Литература:
1. См. об этом подробнее: Вольперт Л. И. Пушкин в роли Пушкина. М. 1997.
2. Вульф А. Н. Дневники. М. 1929. С. 146.
3. Дневники-письма Н. О. и С. Л. Пушкиных. С.-Петербург. 1993. С. 175.
4. Дневники-письма сестры Пушкина. С.-Петербург. 1994. С. 156.
5. Друзья Пушкина. Т. 1-2. М. 1984. Т. 2. С. 210.
6. Абрамович С. Пушкин. Последний год. М. 1991. С. 92.
7. Пушкин и его современники. Т. XXI-XXII. Петроград. 1915. С. 351. Пушкин. Полное собрание сочинений. Т. VI. М. Изд. АН СССР, 1937. (Большое академическое издание).
8. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в десяти томах. Изд. 4-е. Т. 5. Л., 1978.
9. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в 6-ти т. Приложение к журналу "Красная Нива". Т. VI. Путеводитель по Пушкину. М. - Л., 1931.
10. Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. I. M., 1951.
11. Поспелов Г. "Евгений Онегин" как реалистический роман. - В кн.: Пушкин. Сб. статей. М., 1941.
12. Поэтическая фразеология Пушкина. М., 1969.
|
| 
Текст к презентации `Тригорское в жизни и творчестве Пушкина`
Автор: Борисова Л.А., Зырянов Кирилл
|
Тэги: Пушкин, Пушкинские Горы, Тригорское, Осиповы-Вульф
|

 Вакансии для учителей
Вакансии для учителей
|
|